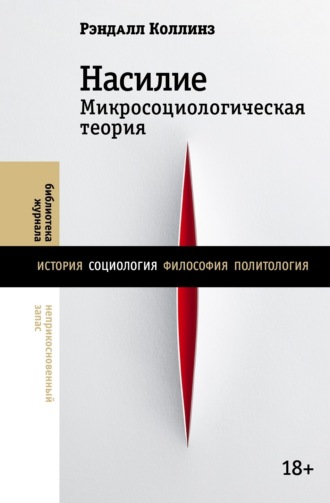
Полная версия
Насилие. Микросоциологическая теория
Насилие в том виде, в каком оно проявляется в реальных жизненных ситуациях, определяется переплетением таких человеческих эмоций, как страх, гнев и возбуждение, и происходит это в прямом противоречии конвенциональной морали, соответствующей нормальным ситуациям. Именно это шокирующее и неожиданное свойство насилия, которое в реальных ситуациях фиксирует холодный взгляд камеры, предоставляет ключ к эмоциональному механизму, занимающему центральное место в микроситуационной теории насилия.
Сегодня мы располагаем гораздо большими возможностями увидеть, что именно происходит в реальных ситуациях, чем когда-либо прежде. Это новое ви́дение возникло благодаря сочетанию технологий и социологических методов. Подъем этнометодологии как интеллектуального движения в 1960–1970‑х годах состоялся одновременно с появлением новых портативных кассетных магнитофонов. Это устройство позволило фиксировать по меньшей мере звуковую составляющую реальных социальных взаимодействий, а затем многократно воспроизводить эту запись, замедляя и анализируя ее. В результате у исследователей появились возможности, едва ли доступные при мимолетных наблюдениях в реальном времени, что и привело к появлению такой области науки, как конверсационный анализ [Сакс и др. 2015; Schegloff 1992]. А по мере того как все более компактными и повсеместно распространенными становились устройства для видеозаписи, появилась возможность изучать и другие микроаспекты поведения, такие как телесные ритмы, позы и выражения эмоций. Словом, нет ничего удивительного в том, что примерно с 1980 года начинается «золотой век» социологии эмоций (см. [Katz 1999] и многие другие работы).
Утверждение, что одна фотография стоит тысячи слов, не стоит воспринимать как буквальную истину. Большинство людей не смогут увидеть то, что действительно изображено на снимке, либо увидят это сквозь призму визуальных клише, которые всегда окажутся наготове. Для утверждения о том, что действительно присутствует на снимке, требуются подготовка и аналитический инструментарий, а также нужно знать, что именно там искать. Одно изображение стоит тысячи слов только для тех, кто уже усвоил подходящий для этого терминологический аппарат. Это утверждение в особенности верно в тех случаях, когда нам приходится упражняться в рассмотрении мелких деталей: видеть движения одних мышц лица, а не других, позволяющие отличить фальшивую улыбку от спонтанной; движения, демонстрирующие страх, напряженность и другие эмоции; монотонность ритмической координации и заминки, свидетельствующие о недоразумениях и конфликте; типовые ситуации, в которых тот или иной человек берет на себя инициативу и навязывает свой ритм другим. Доступные сегодня методы видео- и аудиозаписи открывают возможность увидеть бескрайний новый ландшафт человеческого взаимодействия – а наша способность к ви́дению идет рука об руку с расширением теоретических представлений о том, какие процессы можно наблюдать.
Все сказанное верно и применительно к микросоциологии насилия. Революция в области видеозаписи позволила получать гораздо больше информации о том, что происходит в ситуациях, когда совершается насилие, чем когда-либо прежде. Однако реальные условия съемки не похожи на голливудские киностудии: освещение и композиция далеки от идеальных, а ракурсы камеры и расстояние до объектов могут не соответствовать желательным для микросоциолога параметрам. Необходимо отказаться от общепринятых критериев, делающих видео (включая телевизионную рекламу) соответствующим представлениям о драматизме, например когда камера меняет ракурс максимум раз в несколько секунд, а для получения интересной и увлекательной последовательности кадров требуются огромные усилия монтажера. Микросоциолог обычно сможет за несколько секунд уловить различия между необработанной записью, сделанной в ходе наблюдений, и роликом, который прошел художественную или монтажную обработку. В силу всевозможных причин «сырой» конфликт не слишком занимателен, но микросоциологи обращаются к этому материалу не ради развлечения.
Возможность пронаблюдать ландшафт насилия в том виде, в каком оно происходит на самом деле, открыли и другие подходы, помимо видеосъемки в реальном времени. На протяжении полутора столетий совершенствовалась и фотосъемка: камеры становились более компактными, а благодаря объективам и осветительным приборам появилась возможность снимать такие сцены, которые прежде можно было зафиксировать на пленке лишь с помощью статичных постановочных кадров в относительно благоприятных условиях. Профессиональные фотографы стали проявлять больше бесстрашия, в особенности во время массовых беспорядков, демонстраций и в зонах военных действий – количество погибших фотографов за последние десять лет резко возросло, намного превысив любой предшествующий период6. Для микросоциологов здесь также открываются благоприятные возможности, хотя вновь следует учитывать оговорки, упоминавшиеся выше. Фотоснимки передают эмоциональные аспекты насильственных взаимодействий зачастую лучше, чем видеозаписи. Видеозапись, где представлено последовательное разворачивание конфликта, или вообще любую видеозапись, на которой присутствует взаимодействие, можно замедлить до отрезков продолжительностью в микросекунды (в более старых кинокамерах – покадрово), чтобы при анализе получить изображения конкретных деталей положений тела, выражений лица и последовательности микродвижений. Фотоснимки массовых беспорядков, которые обильно использовались в работе над этой книгой, впечатляюще демонстрируют разделение между активным меньшинством на передовой насилия и вспомогательной массой демонстрантов. Допускать, что понять содержание этих снимков сможет человек без социологической восприимчивости, опрометчиво. Фотокадры обычной новостной фотохроники в данном случае более полезны, чем высокохудожественное или идеологизированное фото. Некоторые снимки демонстраций или сражений содержат художественный или политический посыл, предопределяющий всю композицию, но для того, чтобы добраться до макросоциологических аспектов конфликта, требуется взгляд с иного ракурса.
Представления интеллектуалов о том, что именно требует исследования, шли в ногу с технологическим прогрессом, а иногда и опережали его. Например, военный историк Джон Киган [Keegan 1976] взялся за реконструкцию сражений «от земли», задавшись целью выяснить, что именно должно было происходить на самом деле, когда та или иная группа солдат устремлялась вперед или падала навзничь, когда лошади, люди и транспортные средства увязали в заторах, когда оружие использовалось умело, от случая к случаю или не использовалось вовсе. Другие исследователи войн обнаружили, какое количество ружей погибших солдат, которые собирались на полях сражений, оставалось заряженными. Кроме того, различные битвы прошлого реконструировались с помощью лазерных лучей7. Полученные сведения о поведении солдат в бою открыли возможности для общего понимания ситуаций, в которых совершается насилие. Эмоциональные отношения между солдатами и их товарищами, а также между солдатами и их противниками – такими же людьми – стали одним из первых ключей к пониманию того, как разворачиваются насильственные ситуации8.
Если придерживаться нашего привычного представления о мире, где разные вещи отделены друг от друга резкими границами, то между военной историей и реконструкцией полицейского насилия пролегает значительная дистанция – однако же в методологическом и теоретическом плане здесь обнаруживаются уверенные параллели. Понимание тех случаев, когда полиция применяет насилие, становится доступным при помощи технологий видеосъемки, а также ряда методов реконструкции событий наподобие баллистического анализа траекторий полета пуль. Последний позволяет выяснить, сколько из них попало в правильные и случайные цели, а сколько пролетело мимо. На помощь приходили и старые добрые этнографические методы: наблюдения социологов, которые в 1960‑х годах ездили в рейды вместе с полицейскими патрулями, предшествовали некоторым из перечисленных технологических достижений и обеспечили ряд ключевых теоретических компонентов. Сами по себе технологии редко дают реальную возможность проникнуть в суть дела – принципиальный момент заключается в том, чтобы технологии выступали в сочетании с аналитической перспективой.
Подводя итог, можно утверждать, что существует по меньшей мере три метода получения ситуационных подробностей взаимодействий, связанных с насилием: записи, реконструкции и наблюдения. Наиболее ценным является их использование в комбинации друг с другом.
Технологии записи конфликтов, происходящих в реальной жизни, полезны в силу целого ряда причин. Они способны предоставить нам такие детали, которые мы иначе вообще не увидели бы, не были бы готовы обратить на них внимание или не знали бы об их наличии. Эти же технологии могут обеспечить более уверенную аналитическую позицию для рассуждения о насилии, – позицию, более отстраненную от повседневных структур целостного восприятия (perceptual gestalts) и штампов обыденного языка. Наконец, при помощи записей мы можем обращаться к какой-либо ситуации вновь и вновь, преодолевая первоначальный шок от увиденного (или же пресыщенность подобными картинами, снедаемый любопытством интерес и т. п.), и тем самым пустить в ход наше аналитическое мышление для того, чтобы смириться с содержанием этих записей и сделать какие-либо открытия или проверить положения тех или иных теорий.
Значимость реконструкций заключается в том, что насильственные ситуации имеют место относительно редко, а в те времена, когда происходили многие события, которые мы больше всего хотели бы понять, никаких записывающих устройств не существовало. Но теперь нам не так уж сильно предстоит блуждать в темноте, как казалось раньше, ведь по мере совершенствования ситуационного анализа, с одной стороны, и продолжающихся разработок новых методов исследования вещественных улик, остающихся на месте происшествия, с другой, появилась возможность реконструировать многие сцены насилия. Польза широкого спектра реконструкций, включая исторические события, состоит в том, что они предоставляют теоретический рычаг для выявления как общих черт, так и многомерных различий между ситуациями, в которых происходит насилие.
Наконец, в нашем распоряжении есть наблюдения за людьми. Это может быть и та самая старая добрая этнография – в особенности в версии включенного наблюдения, когда социолог (или антрополог, психолог либо искушенный журналист) вникает в ситуацию при помощи отточенного сенсорного аппарата, выискивая в ней красноречивые детали, – и еще один столь же старомодный вариант: самонаблюдение, фиксация собственного опыта участия в тех или иных событиях. Многое из того, что мы узнали о сфере насилия, получено из сообщений бывших военных, бывших преступников, а то и просто обычных, не «бывших» людей, обладавших достаточной способностью к рефлексии, чтобы рассказать о насильственных столкновениях, свидетелями которых они были или сами в них участвовали. Немалую ценность представляют и сообщения жертв насилия, хотя они не слишком активно использовались социологами, если не брать голые статистические подсчеты частоты определенных видов виктимизации. Кроме того, по мере появления в нашем распоряжении более качественного теоретического понимания того, какие микродетали важны в насильственных конфронтациях, мы получаем больше возможностей для анализа собственного опыта и обращения к ретроспективным наблюдателям с вопросами о тех подробностях их столкновений с насилием, которые мы хотели бы выяснить. Предоставляя нашим информантам терминологический аппарат, мы нередко превращаем их в отменных хроникеров тех подробностей, которые в ином случае они бы упустили из виду.
Каждый из трех видов ситуационных свидетельств сочетается друг с другом – и дополняет друг друга не только методологически, но и содержательно. Все они раскрывают общую ситуационную динамику – собственно, этому и посвящена книга, которую вы держите в руках.
Сравнение ситуаций между разными типами насилия
Для разработки теории механизмов насилия требуется еще один прием: нам необходимо действовать поверх границ разных исследовательских специализаций, а не замыкаться в них. В центре такого подхода лежит сравнение различных видов насилия в пределах общего теоретического каркаса. Но не является ли это «сравнением яблок с апельсинами» или в лучшем случае банальной таксономизацией? На этот вопрос невозможно дать априорный ответ. При ближайшем рассмотрении обнаруживается, что насилие представляет собой совокупность процессов, которые всецело вытекают из общей ситуационной характеристики насильственных столкновений.
Я бы сформулировал эту мысль окольным путем: насилие представляет собой набор траекторий, позволяющих действовать в обход напряженности и страха, возникающих во время конфронтаций (confrontational tension and fear). Несмотря на все свое бахвальство даже в тех ситуациях, когда ярость кажется неконтролируемой, мы испытываем напряжение, а зачастую и страх перед непосредственной угрозой насилия – включая и то насилие, которое исходит от нас самих. Именно эта эмоциональная динамика и определяет, что мы станем делать, если насильственное столкновение в самом деле разразится. Произойдет ли это в действительности, зависит от ряда условий или переломных моментов, которые задают напряженности и страху определенные направления, реорганизуя эмоции в виде процесса взаимодействия, в который вовлечены все присутствующие: противники, зрители и даже, на первый взгляд, безучастные посторонние лица.
Откуда нам все это известно? Данный теоретический постулат сложился благодаря накоплению информации о различных насильственных ситуациях. Первый прорыв свершился благодаря изучению военных действий. Страх, беспорядочная стрельба, «дружественный огонь» по солдатам со своей стороны, оцепенение – именно такие особенности отмечали офицеры, анализировавшие поведение бойцов на линии фронта, начиная с французского военного XIX века Ардана дю Пика, который анкетировал боевых командиров. Еще ближе от непосредственных боевых действий находился Сэмюэл Лайман Этвуд Маршалл, который интервьюировал солдат сразу после сражений Второй мировой войны. В 1970‑х годах картина поведения людей в бою была систематизирована в исторических реконструкциях Кигана и других исследователей, а к 1990‑м годам военный психолог Дейв Гроссман создал общую теорию сражения, в основе которой лежит управление страхом. Еще более выраженный паттерн чередования боязливого и агрессивного поведения прослеживается в снятых в 1960‑х годах этнографических фильмах, посвященных насильственным столкновениям между племенными обществами. Сравнение различных видов военного насилия приводит к следующей теоретической гипотезе: различия в эффективности действий армий зависят от того, какой тип организации используется для контроля над страхом среди их личного состава. Обобщая эту мысль, можно утверждать, что все типы насилия укладываются в небольшое количество моделей, позволяющих обходить барьер напряженности и страха, который возникает всякий раз, когда мы вступаем в антагонистическую конфронтацию.
Кроме того, военная модель подходит для объяснения насилия, совершаемого полицейскими во время задержаний и при обращении с заключенными. Конфронтации с участием полиции и военных приводят к чрезмерной жестокости одним и тем же путем – через последовательность эмоциональных событий, которую мы именуем наступательной паникой (forward panic) – она будет рассмотрена в главе 3. Насилие, совершаемое толпой, или массовые беспорядки в некоторых своих основных механизмах также напоминают насилие во время войны. На протяжении значительной части времени конфронтация в основном сводится к бахвальству и жестикуляции, не приводя к реальному ущербу. Роковой момент наступает, когда солидарность одной из сторон внезапно дает трещины, распространяющиеся на открытом пространстве, где присутствуют небольшие группы, в результате чего численное превосходство одной из сторон позволяет изолировать и избить одного-двух человек со стороны противника, отделившихся от своих товарищей. При рассмотрении в фактических деталях все перечисленные формы насилия выглядят крайне уродливо – несоответствие между их идеализированным представлением о себе и реалиями чрезмерной жесткости, по сути дела, представляет собой еще одну их общую ситуационную особенность.
Все эти различные формы насилия представляют собой подтипы одной из основных траекторий обхода конфронтационной напряженности и страха – поиска слабой жертвы для нападения. Более сложным для непосредственного изучения сторонними наблюдателями является домашнее насилие. Соответствующие записи практически отсутствуют, так что в данном случае приходится опираться на реконструкции событий при помощи интервью, ограниченных тем обстоятельством, что в основном они сводятся к сообщениям лишь одного их участника. Тем не менее, обработав большой массив свидетельств, я пришел к выводу, что основные формы домашнего насилия напоминают те типы ситуаций с участием военных и полицейских, которые можно подвести под общую рубрику «нападение на слабого». Самая неприглядная версия этого сценария имеет место, когда конфронтационная напряженность нарастает, а затем внезапно спадает, в результате чего противник, который поначалу казался угрожающим или приводящим в смятение, оказывается беспомощным, и это приводит к тому, что страх и напряженность другого участника конфронтации резко трансформируются в яростную атаку. Кроме того, имеются более институционализированные формы нападения на слабых – речь идет о воспроизводящихся паттернах, где одна или обе стороны привычно разыгрывают роли сильного и слабого в ситуационном драматическом действе. К таким формам относятся травля, а также разнообразные действия специалистов по насильственным преступлениям, мастеров уличных ограблений и разбойных нападений, которые довели до совершенства свои навыки поиска подходящих жертв в подходящих ситуациях: успех их действий зависит от умения извлечь выгоду из конфронтационной напряженности как таковой. Таким образом, сравнение непохожих друг на друга форм насилия позволяет выявить схожие механизмы эмоционального взаимодействия.
Еще одна большая группа ситуаций предполагает совершенно иную траекторию обхода ситуационной напряженности и страха: вместо поиска слабой жертвы эмоциональное внимание концентрируется на зрителях, перед которыми разворачивается насильственное столкновение. Данные столкновения резко отличаются от нападения на ситуационно слабую жертву, поскольку их участники гораздо больше обращают внимание на свою аудиторию, чем друг на друга (в главе 6 будут приведены свидетельства того, что позиция публики оказывает здесь решающее влияние на то, будет ли вообще происходить насилие и в каком объеме). Как правило, для таких столкновений характерны стилизованный и ограниченный характер, хотя происходящее в этих границах может быть достаточно кровавым или даже смертельным. В одном из основных подобных сценариев насилие принимает такую форму социальной организации, как честный бой, участвовать в котором может ограниченный круг противников, подобранных надлежащим образом. Социальные структуры, которые создают подходящие условия для таких поединков и осуществляют контроль над ними, и здесь становятся лучше всего заметны при сравнении разноплановых ситуаций. К ним относятся драки один на один, которые можно наблюдать на улицах или в местах развлечений; драки как форма разгульного веселья; потасовки и насилие понарошку как обычная форма поведения детей; дуэли; боевые искусства и другие практики школ единоборств; спортивное насилие, совершаемое как участниками соревнований, так и болельщиками. В отличие от упомянутых выше подлинно омерзительных разновидностей насилия, которые зависят от возможности обнаружить ситуационно слабую жертву, данный набор ситуаций можно рассматривать как насилие ради забавы и защиты чести. Тем не менее, вглядываясь в микрореалии подобных поединков, выясняется, что и они точно так же формируются конфронтационной напряженностью и страхом, причем их участники все так же по большей части используют насилие неумело, а то, что им удается сделать, зависит от того, насколько они настроены на аудиторию, которая обеспечивает им эмоциональное доминирование над противником.
Мифы о драках
Наиболее распространенная траектория обхода конфронтационной напряженности и страха очень коротка и не ведет к каким-либо дальнейшим действиям: люди не выходят за рамки эмоциональных трений, возникающих в противостоянии, ограничиваясь бахвальством или поиском способов отступить – с сохранением лица, но порой и унизительных. А если насилие все-таки вспыхивает, то оно, как правило, осуществляется неумело, поскольку напряженность и страх сохраняются и во время насильственных действий.
Одна из причин того, почему реальное насилие выглядит настолько безобразно, заключается в том, что мы находимся под слишком большим влиянием мифологизированного насилия. То непосредственное зрелище насилия, которое разворачивается у нас на глазах в кино и по телевидению, заставляет нас полагать, что именно так и выглядит настоящее насилие. Стилистика современного кино, приковывающая внимание зрителей кровавыми ранами и брутальной агрессивностью, может вызвать у многих представление, будто это развлекательное насилие, как ни крути, слишком уж реалистично. В действительности дело обстоит совершенно не так. Конвенциональные способы изображения насилия почти всегда упускают его важнейшие механизмы – а именно то, что насилие начинается с конфронтационной напряженности и страха, основную часть насильственных инцидентов занимает бахвальство, а обстоятельства, позволяющие преодолеть напряженность, приводят к такому насилию, которое оказывается скорее чем-то уродливым, нежели зрелищным. Развлекательные СМИ выступают не единственным источником всеобъемлющего искажения реалий насильственных столкновений – превращению насилия в некую современную мифологию способствуют речевые конвенции, связанные с хвастовством, угрозами и рассказыванием историй о поединках, свидетелями которых мы были.
В особенности глупым является миф о том, что драки представляют собой нечто провоцирующее подражание, распространяясь наподобие вируса. Именно на этом основаны сюжеты старых кинокомедий и мелодрам: один человек бьет кулаком другого в переполненном баре или ресторане, официант опрокидывает поднос, приводя в ярость другого посетителя, и в следующих кадрах уже все вокруг дерутся друг с другом. Нет никаких сомнений в том, что в реальной жизни такие драки всех против всех никогда не случались по-настоящему. Типичная реакция прохожих, когда в людном месте начинается драка, заключается в том, чтобы отойти на безопасное расстояние и наблюдать за происходящим. Если толпа людей состоит из благовоспитанных представителей среднего класса, то они реагируют на увиденное с большей тревогой или ужасом, отступая как можно дальше, но не демонстрируя паники в открытую. Я и сам был свидетелем этого как-то раз, когда двое бездомных устроили потасовку на тротуаре у театра в центре города, а зрители тем временем находились на улице во время антракта. Потасовка была недолгой и сопровождалась обычными для таких случаев враждебным мычанием и жестикуляцией, а хорошо одетые представители среднего класса, затаив тревогу, предпочитали держаться на расстоянии. Во время необузданных инцидентов с участием представителей рабочего класса или молодежи толпа, как правило, освобождает место, где могут драться несколько человек, а иногда подбадривает дерущихся и выкрикивает им слова поддержки с безопасного расстояния. Но если главные участники драки слишком разъярены, то зрители, как правило, не только помалкивают, но и шарахаются от происходящего9. Тем более все сказанное характерно для драк, вспыхивающих на открытых пространствах с небольшим количеством людей: прохожие держатся на расстоянии от дерущихся.
Таким образом, невозможно обнаружить присутствие некоего вируса воинственности, провоцирующего войну всех против всех. Нельзя утверждать, что люди постоянно находятся на волосок от проявления агрессии и готовы сорваться с места при малейших способствующих этому обстоятельствах. Если судить по наиболее распространенным свидетельствам, то образ человека, представленный Гоббсом, эмпирически неверен. Драки – а по сути, и вообще большинство открытых проявлений конфликта – в наиболее типичном случае вызывают страх или по меньшей мере настороженность.
Исключением из общей ситуации, подразумевающей, что насилие не передается «вирусным» путем, составляют случаи, когда в толпе уже произошло разделение на антагонистические групповые идентичности. Если драка начинается между представителями противоборствующих групп, то к ним могут присоединяться их товарищи и размах столкновения увеличится. Именно так выглядит один из типичных сценариев перехода к насильственным действиям толп враждующих футбольных болельщиков (так называемых футбольных хулиганов, в особенности британских)10. Такая же ситуация провоцирует межэтническое насилие и другие проявления феномена, который Чарльз Тилли [Tilly 2003] называет «активацией границ» коллективных идентичностей. Но и это не является пресловутой войной всех против всех: ситуации, не слишком уместно именуемые «массовыми драками» (free-for-all), сторонним наблюдателям могут показаться хаотичными и неструктурированными, хотя в действительности им присуща достаточно сильная организованность. Именно этот момент позволяет отдельным лицам преодолевать всепроникающий страх, который удерживает большинство людей от участия в драках, и если бы драки не обладали основательной социальной организацией, массовое участие в них было бы невозможным.




