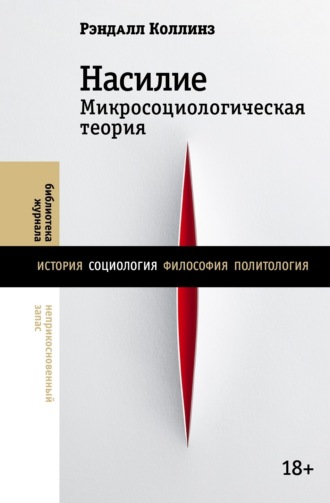
Полная версия
Насилие. Микросоциологическая теория
«Я почувствовал, что хочу что-нибудь утащить, пока там нахожусь. Мне просто случилось оказаться на этом месте, когда они только начали врываться в магазин. Все происходило мгновенно, и у меня в руках внезапно оказалось полно всякого добра. А когда я стоял на углу и с кем-то разговаривал, внезапно появилась полицейская машина, и меня схватили». У этого человека было с собой десять пар женских брюк и семь блузок; позже он сообщил интервьюеру, что не собирался вручить их своей жене и понятия не имел, что будет с ними делать.
Наконец, рационально-утилитарной традиции социологии Коллинз отдает должное в главах, где анализируются многочисленные виды нападения на слабого, включая травлю и домашнее насилие. Здесь социальное взаимодействие нередко предстает своего рода рынком, на котором делаются различные виды ставок – символические, сексуальные, материальные и т. д. Такой подход позволяет рассматривать, к примеру, насилие в семье как процесс негласного торга, прощупывания партнерами друг друга, выявления сильных и слабых сторон, предполагающий использование в непосредственной ситуации таких ресурсов, как сила принуждения, деньги или эмоциональные ритуалы. В свою очередь, пресловутый школьный буллинг во многом связан с распределением позиций на формирующемся в подростковом возрасте рынке сексуальной привлекательности: в качестве жертвы травли чаще всего оказываются ученики, не сумевшие найти в этой статусной системе достойного места либо не включившиеся в альтернативные сети наподобие контркультурных или интеллектуальных групп.
В целом же Коллинз прекрасно справился с главной, пожалуй, задачей социолога, как понимали ее такие величины, как Эрвин Гоффман и Пьер Бурдьё11, – подобрать ключи к той стороне социальной жизни, которая обычно скрыта за кулисами, и продемонстрировать ее потаенные структуры. В случае насилия эта задача тем более сложна, что за шокирующим фасадом могут скрываться еще более грязные секреты (заголовок этой рецензии подсказан названием первой части книги).
***Коллинз связывает собственный вклад в социологию насилия с состоявшимся во второй половине ХX века принципиальным расширением технического инструментария, доступного исследователю (этот вопрос обстоятельно рассмотрен в первой главе книги). «Сегодня интерес к любым аспектам насилия, возможно, максимально велик за всю историю социальных наук», – констатировал Коллинз в большом интервью 2018 года12, отмечая, что сейчас эта область стала более зрелой благодаря появлению качественных исторических материалов, микроданных и гораздо большему объему полевых исследований среды, в которой происходит насилие. Среди коллег, занимающихся этой темой, Коллинз особо отметил чернокожего социолога Элайджу Андерсона с его исследованиями «уличного кодекса» неблагополучных районов американских городов, Элис Гоффман с ее авторитетной книгой «На бегу: Бродячая жизнь в большом американском городе» (2015) и Боуэна Полла, автора сравнительного исследования «токсичных школ» в Нью-Йорке и Амстердаме. А среди наиболее авторитетных исследователей насилия, чьи работы Коллинз активно цитирует в своей книге, можно назвать, к примеру, бывшего подполковника армии США Дейва Гроссмана, описавшего в своей книге «Об убийстве» (1995) связанные с этим актом психологические процессы, шведского исследователя школьного буллинга Дана Олвеуса, исследователя массовых беспорядков на этнической почве Дональда Хоровица, автора книги «Острова на улице: уличные банды и американское общество» Мартина Санчеса Янковски и ряд других авторов. Остается лишь добавить, что большинство современных работ по социологии насилия, которые упоминает Коллинз, не переведены на русский – одно из направлений работы в этой сфере для российских исследователей совершенно очевидно.
Новая теории насилия, утверждает Коллинз в том же интервью, отличается от концепции структурного насилия, в которой предпринимается попытка дать насилию моральную оценку – ход, уместный для политиков или философов, но не для социологов. «Конечно, мы хотели бы объяснить структурное неравенство, но его форма совсем непохожа на динамику насилия, как она выглядит эмпирически, – поясняет Коллинз. – Кое-кто определяет насилие как все, что внушает его участникам ощущение социального неравенства и господства, но влияет ли это на реальное физическое насилие – вопрос эмпирический. Например, значительная часть детей играют в игры, в которых присутствуют драки и своего рода доминирование. Но поскольку они определяются рамками игры, все это не имеет большого влияния на что-либо за пределами игры. Некоторые теоретики утверждают, что без детских игр с эмоциональным доминированием не было бы и насилия среди взрослых. Однако не думаю, что это эмпирически достоверно. Сомневаюсь, что у многих политических деятелей, которые стоят у власти, когда начинается война, обязательно имеется в семейной истории нечто объясняющее такое решение. Нахождения у власти уже достаточно для того, чтобы объяснить, что эти люди делают с государством – которое в конечном итоге является организацией, основанной на военной силе».
Что же касается самого военного насилия, которое также зависит от эмоциональных реакций и эмоционального доминирования, то новый – на конец 2010‑х годов – вопрос, по мнению Коллинза, заключался в том, исчезнут ли эмоции, если все оружие будет управляться при помощи высоких технологий. Но происходит ли такое замещение людей технологиями на самом деле? Коллинз по этому поводу довольно скептичен, указывая на большую роль человеческого фактора и в современной «сетецентричной» войне: «Мой общий вывод о высокотехнологичных вооруженных силах заключается в том, что существует тенденция к деградации высокотехнологичных систем вооружения до менее технологичных форм после того, как они были введены в действие и подверглись исчерпанию. Когда армии нападают друг на друга, они стремятся к взаимному уничтожению организации и материальной части. Победит тот, кто сможет быстрее вернуться к более низкому уровню технологий. Тем самым мы возвращаемся к эмоциональным процессам. Когда Исламское государство13 в 2014 году захватило Северный Ирак за пару недель, это был явно эмоциональный эффект. Армия из 10 тысяч человек победила армию из 250 тысяч человек. Иракская армия просто развалилась, хотя у нее было лучшее оружие. Но она была полностью деморализована – это была эмоциональная победа, а не технологическая». За более современными подтверждениями того, что Коллинз был прав, далеко ходить не придется – эмоциональная энергия по-прежнему играет важнейшую роль в войне в ситуации, когда одна из сторон серьезно уступает противнику в живой силе и технике.
***У книги Коллинза о «Насилии», безусловно, есть и важный внешний контекст: она появилась в оригинале в тот момент, когда насилия в мире стало определенно больше. Несомненно, здесь автор этой рецензии становится на довольно шаткую тропу, поскольку рассуждать о том, больше или меньше насилия в мире в конкретный момент времени в сравнении с каким-то другим, сопоставимо с участием в дискуссии о том, существует ли прогресс в искусстве. Но для западного мира 2000‑е годы определенно ознаменовали усиление роли насилия в актуальной повестке – начиная с терактов 11 сентября и далее в связи с военными кампаниями в Афганистане и Ираке (этим событиям в книге Коллинза, конечно же, нашлось место).
В нынешнем же десятилетии, когда насилия в мире точно стало еще больше, блестящая во многом книга «топ-звезды» американской социологии производит довольно странное впечатление. Это, конечно, далеко не высказывание в духе «все к лучшему в этом лучшем из миров», но во многом работа Коллинза созвучна литературе, которая появилась примерно в то же время и вполне убедительно заявляла о прекращении «больших войн». Военные ужасы наподобие той же Нанкинской резни или массового убийства вьетнамцев американскими солдатами в деревне Сонгми выглядят событиями не такого уж далекого, но как будто качественно иного прошлого, а в настоящем насилие встречается не так уж часто, не устает напоминать Коллинз, причем делает это «с цифрами в руках». Возможно, если исходить из американской криминальной статистики, то вероятность того, что конкретный человек в конкретный момент времени конкретного дня конкретного года подвергнется убийству или нападению, действительно очень мала. Однако такой подход в самом деле выглядит американо- или, шире, западоцентризмом – особенно если вспомнить о ряде событий, происходивших примерно в то же время на глобальной периферии. Например, Вторая Конголезская война, в которую на рубеже столетий была втянута почти половина африканских стран, унесла жизни около четырех миллионов человек – во многом потому, что участвовали в ней преимущественно не организованные армии, а парамилитарные группировки, устанавливавшие в подконтрольных им территориях режим рутинного эндемичного насилия. При этом не более 10% всех погибших стали непосредственными жертвами насилия, а остальные потери пришлись на смерти гражданских лиц по разным причинам: голод, эпидемии, детская смертность…14
Разумеется, тема насилия настолько многогранна, что даже в толстой книге невозможно объять даже вкратце все его проявления – скажем, серийных убийц Коллинз вообще упоминает короткой строкой, указывая лишь, что это самый редкий тип насилия (что, впрочем, не помешало ему стать предметом многотомной литературы – от академической психиатрии до поп-продукции15). Но главное, чего действительно не хватает в книге, – это детального анализа явления, которое нередко называют культурой насилия, той способствующей насилию среды, где барьер конфронтационной напряженности изначально снижен, потому что человеческая жизнь не стоит почти ничего. Определенные попытки зайти на это поле Коллинз, несомненно, предпринимает, скажем, обращаясь к «уличному коду» неблагополучных районов американских городов, однако это явно не тот случай, когда культура насилия овладевает целым обществом – за сегодняшними примерами далеко ходить не надо – и регулярно генерирует слишком большой объем реального насилия, чтобы считать его просто нарушением нормального ритуала человеческого взаимодействия. Впрочем, едва ли ключи к разгадке этого феномена обнаружатся в арсенале инструментов микросоциологии – здесь требуется большое интердисциплинарное исследование, для которого блестящая книга Рэндалла Коллинза окажется одним из главных опорных текстов.
Н. П., октябрь 2024 годаБлагодарности
За рекомендации, комментарии или предоставленные данные автор выражает признательность Джеку Кацу, Элайдже Андерсону, Ларри Шерману, Энтони Кингу, Кертису Джексон-Джейкобсу, Георгию Дерлугьяну, Дэвиду Грациану, Марку Сейджману, Тому Шеффу, Эрику Даннингу, Йохану Гаудсблому, Йохану Хейлброну, Мюррею Милнеру, Робин Вагнер-Пацифици, Кэтрин Ньюман, Дэну Чемблиссу, Джерри М. Льюису, Джеффри Олперту, Йенсу Людвигу, Мередит Росснер, Уэсу Скоугену, Лоду Уолгрейву, Иэну О’Доннеллу, Никки Джонс, Питеру Москосу, Элис Гоффман, Дианне Уилкинсон, Марен Макконнелл-Коллинз, Кену Доноу, Джону Олесбергу, Джону Тернеру, Рэй Лессер Бламберг, Энтони Обершаллу, Роуз Чейни, Ирме Ило, Патриции Малони, Молли Рубин, Кларку МакКоули, Джудит МакКоннелл, Хизер Стрэнг, Стефану Клузманну, Дональду Левину, Роберту Эмерсону, Джеффу Гудвину, Ричарду Тремблей и Энтони Макконнеллу-Коллинзу. Кроме того, автор благодарит участников коллоквиумов в Амстердамском, Кембриджском, Копенгагенском и Голуэйском университетах, Университетском колледже Дублина, Университете Нотр-Дам, Принстонском университете, Университете Кент Стейт и Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе, а также в Международном институте социологии права в Онати (Испания); сотрудников департаментов полиции Сан-Диего и Филадельфии, дорожной полиции Калифорнии, полиции штата Нью-Джерси, полиции Ирландии; участников занятий по социальным конфликтам в Университете Калифорнии в Риверсайде и Пенсильванского университета. Особую благодарность автор должен выразить Даниэле Кейн, которая оказала неоценимую помощь в качестве ассистента при проведении исследований. Вдохновляющую среду для дискуссий, посвященных множественным аспектам конфликта, обеспечили Центр изучения этнополитических конфликтов Соломон Эша, Центр криминологии Джерри Ли и факультет криминологии Пенсильванском университете.
Глава 1
Микросоциология насильственных конфронтаций
Насилие удивительно многообразно. Оно может быть кратким и эпизодическим – в качестве примера можно привести пощечину, – но может принимать масштабный и организованный характер, как в случае войны. Насилие может быть страстным и гневным (ссора) – или безразличным и обезличенным (бюрократ, управляющий газовыми камерами). Насилие может происходить навеселе, как во время пьяного разгула, вселять страх наподобие того, что испытывают солдаты в сражении, и иметь злонамеренный характер, когда за него берутся мучители. Оно может совершаться тайком и скрытно, как в случае убийств, сопровождаемых изнасилованием, или публично, в виде ритуальной казни. Насилие – это и развлечения с заранее предусмотренной программой наподобие спортивных состязаний, и сюжетное напряжение драмы, и экшен в приключенческом боевике, и шокирующие сюжеты как неотъемлемая составляющая выпусков новостей. Ужасное и героическое, отвратительное и захватывающее, самое осуждаемое и самое прославляемое из человеческих деяний – все это насилие.
Между тем все это бескрайнее множество проявлений насилия можно объяснить с помощью сравнительно компактной теории. Условия для того, когда и как имеют место различные формы насилия, обеспечиваются несколькими ключевыми процессами, которые протекают в сочетании друг с другом и с разной степенью интенсивности.
Наше исследование будет строиться вокруг двух соображений. Во-первых, в центре исследования будет находиться взаимодействие, а не отдельно взятый человек, социальное происхождение, культура или даже мотивация. Иными словами, мы предпримем поиск характерных особенностей ситуаций, в которых происходит насилие, а следовательно, обнаружим данные, которые максимально приближают к механизмам подобных ситуаций. Во-вторых, мы проведем сравнение различных видов насилия. Для этого нам придется порвать с привычной категоризацией (где убийства оказываются специализацией одних исследователей, войны – других, жестокое обращение с детьми – третьих, а полицейским насилием занимается кто-то еще) и предпринять поиск ситуаций, случающихся в рамках разных видов насилия. Дело не в том, что все ситуации одинаковы, – напротив, нам предстоит сравнить диапазон вариаций в ситуациях, от которых зависит, какого рода насилие произойдет и в каком объеме. В результате широкий спектр проявлений насилия превращается в методологическое преимущество, дающее ключи к пониманию обстоятельств, объясняющих то, когда и каким образом разворачивается насилие.
Насильственные ситуации
В центре микросоциологической теории насилия находятся не отдельные лица, совершающие насилие, а ситуации, в которых оно происходит. Наша задача – предпринять поиск контуров тех ситуаций, которые формируют эмоции и действия вступающих в них индивидов, тогда как заниматься поиском различных типажей совершающих насилие лиц – типажей, неизменных в разных ситуациях, – означает взять неверный след. В этом направлении и так было предпринято огромное количество исследований, однако они не принесли слишком уж убедительных результатов. Например, можно согласиться, что к совершению многих видов насилия наиболее склонны молодые мужчины. Однако это утверждение применимо не ко всем молодым мужчинам, к тому же насилие в располагающих к этому ситуациях осуществляют и мужчины среднего возраста, и дети, и женщины. Аналогичным образом обстоит дело и с фоновыми переменными – такими социально-демографическими характеристиками, как бедность, расовая принадлежность, происхождение из семьи, где родители развелись или был всего один родитель. Между этими переменными и определенными разновидностями насилия существуют некоторые статистические корреляции, однако их недостаточно для предсказания большинства случаев насилия – по меньшей мере в трех аспектах.
Во-первых, большинство молодых мужчин, бедных, чернокожих или детей разведенных родителей, не становятся убийцами, насильниками, громилами или участниками вооруженных ограблений – и наоборот: среди тех, кто совершает перечисленные виды насилия, обнаруживается немало состоятельных людей, представителей белой расы или выходцев из полных семей. Аналогичным образом широко распространенное объяснение, согласно которому совершающие насильственные действия лица, как правило, сами когда-то в детстве были жертвами жестокого обращения, относится лишь к незначительно меньшей части случаев1.
Во-вторых, подобный анализ дает некую правдоподобную картину этиологии2 насилия лишь потому, что зависимая переменная в нем ограничивается определенными разновидностями противозаконного или в значительной степени стигматизированного насилия, – однако указанный подход не выдерживает критики, если расширить спектр до всех разновидностей насилия. Такие факторы, как бедность, напряженные отношения в семье, жестокое обращение в детском возрасте и т. п., не объясняют ни насилие со стороны полиции, ни то, какие солдаты совершают больше всего убийств противника в бою, ни то, кто именно управляет газовыми камерами или совершает этнические чистки. Доказательств, что из‑за жестокого обращения в детстве человек может стать полицейским-ковбоем3, загульным пьяницей или увенчанным орденами героем войны, не привел еще никто. Несомненно, кое-кому из читателей этой книги такое предположение придется не по нраву, ведь для тех, кто разделяет противоположное мнение, насилие естественным образом распадается на герметично закупоренные сегменты – при этом за «плохое» насилие должны нести ответственность «плохие» социальные условия, тогда как «хорошее» насилие (которое вообще не рассматривается как таковое, если оно совершается уполномоченными государственными агентами) не подлежит анализу, поскольку является частью нормального социального порядка. При таком образе мыслей появляется некая промежуточная категория безобидного или «озорного» насилия (то есть выходящего из-под контроля кутежа), или насилия, совершаемого «хорошими» людьми, – такое насилие объясняется или оправдывается иным набором моральных категорий: «это другое». Подобные разграничения представляют собой хороший пример того, как конвенциональные социальные категории мешают социологическому анализу. Если же как следует сосредоточиться на самой ситуации взаимодействия – представим себе разъяренного друга молодой матери с плачущим младенцем, вооруженного грабителя, который нажимает на спусковой крючок оружия, направленного на жертву налета, или полицейского, избивающего подозреваемого, – то мы сможем разглядеть паттерны конфронтации, напряженности и эмоционального потока, лежащие в основе конкретной ситуации, в которой совершается насилие. Такой подход вновь позволяет увидеть, что фоновые условия – бедность, расовая принадлежность, детские переживания – являются далеко не решающим фактором для динамики конкретных насильственных ситуаций.
В-третьих, даже те лица, которые совершают насилие, занимаются этим лишь в течение небольших промежутков времени. Давайте задумаемся над тем, что имеется в виду, когда мы утверждаем, что тот или иной человек склонен к насилию (violent) или «очень агрессивен». Нам приходят на ум люди, которые были осуждены за убийство или совершили серию убийств, участвовали во множестве драк, резали других людей ножом или мутузили их кулаками. Но если учесть, что повседневная жизнь разворачивается в виде цепочки ситуаций, минута за минутой, то на протяжении большей части этого потока времени присутствие насилия очень незначительно. Этот момент становится явным благодаря этнографическим наблюдениям, причем даже тем, которые выполнялись в городских районах с очень плохой статистикой по насилию. Уровень убийств в 10 человек на 100 тысяч населения (пиковая статистика для США, зафиксированная в 1990 году) – это достаточно высокий показатель, однако он в то же время означает, что 99 990 человек из 100 000 не подвергаются убийству за отдельно взятый год, а 97 000 из 100 000 (опять же, если обратиться к пиковым данным) не становятся жертвами нападений даже в ходе незначительных инцидентов. Кроме того, эти насильственные инциденты «размазаны» по всему году, поэтому вероятность того, что конкретный человек в конкретный момент времени конкретного дня этого года подвергнется убийству или нападению, очень мала. Все сказанное справедливо даже применительно к тем лицам, которые в течение года действительно совершают одно или несколько убийств, нападений, вооруженных ограблений или изнасилований (или, раз уж на то пошло, к полицейским, избивающим подозреваемых). Даже те люди, которые в статистическом смысле совершают много преступлений, едва ли делают это чаще, чем примерно раз в неделю. Самые нашумевшие массовые убийства в школах, на рабочем месте или в общественных местах, совершенные одиночками, уносили жизни не более 25 человек – правда, это, как правило, происходило в рамках одного эпизода [Hickey 2002; Newman et al. 2004]4. С наибольшей регулярностью насильственные действия совершают серийные убийцы, которые в среднем убивают от шести до тринадцати человек в течение нескольких лет. Однако эта разновидность убийств встречается крайне редко (примерно одна жертва на 5 миллионов человек), и даже такие киллеры-рецидивисты делают перерывы между убийствами на несколько месяцев, выжидая подходящей ситуации для нанесения удара [Hickey 2002: 12–13, 241–242]. Еще одна редкая нишевая разновидность насилия – череда последовательных преступлений – может продолжаться в течение нескольких дней в виде цепочки эпизодов, тесно связанных между собой эмоциями и обстоятельствами, формируя в итоге то явление, которое далее будет именоваться туннелем насилия. Но сейчас хотелось бы оставить в стороне эти длительные последовательности насильственных действий и сделать акцент на следующем выводе: даже те люди, которых мы считаем чрезвычайно склонными к насилию – потому, что они не раз совершали насильственные действия или же демонстрировали впечатляющую жестокость по какому-нибудь поводу, – являются таковыми только в очень специфических ситуациях5. Даже самые брутальные громилы какое-то время не занимаются своим промыслом, а самые опасные и склонные к насилию лица не совершают никаких насильственных действий на протяжении большей части времени. И даже для этих лиц ключевым моментом для объяснения того, какое именно насилие они действительно совершают, является динамика конкретных ситуаций.
Микросвидетельства: ситуационные записи, реконструкции и наблюдения
Если исходить из данных опросов отдельных людей, то наши теоретические построения будут ориентироваться на характеристики индивидов, облаченные в термины стандартных социологических переменных. Поэтому для того, чтобы перейти к такой социологической теории, в центре которой находятся не лица, совершающие насильственные действия, а ситуации насилия, необходимо сделать акцент на ином способе сбора и анализа данных. Чтобы зафиксировать процесс насилия в том виде, в котором оно действительно совершается, нам потребуется непосредственное наблюдение за насильственным взаимодействием. Наши теоретические конструкции ограничиваются тем, что основываются на двух специфических типах данных. Во-первых, это статистика, которая собирается постфактум, а затем «упаковывается» системой уголовного правосудия, а во-вторых, это интервью с осужденными или другими фигурантами интересующих нас ситуаций. Опросы потерпевших позволяют сделать шаг в правильном направлении, однако они остаются несовершенным инструментом. Причем – не только потому, что мы можем лишь гадать, в какой степени жертвы говорят правду, ведь здесь появляется еще одна проблема: люди, как правило, плохо запоминают детали и контекст драматических событий. В нашем обыденном дискурсе отсутствуют языковые средства, с помощью которых можно делать добротные описания микровзаимодействия, – напротив, обыденный дискурс предоставляет набор штампов и мифов, которые заранее предопределяют, что именно будут говорить люди. То же самое можно утверждать и о насилии, происходящем во время войн, массовых беспорядков, спортивных состязаний и даже обычных ссор. Когда участники насильственных ситуаций рассказывают о них, они, как правило, представляют весьма урезанную и идеализированную в соответствии с их собственными представлениями версию происходившего.
Последние десятилетия стали новой эпохой в изучении насилия, поскольку появилась возможность исследовать его в том виде, в каком оно фиксируется на видеозаписях, полученных с помощью систем безопасности, полицейских камер, а также при съемке новостных сюжетов и любительского видео. Обычных зрителей просмотр таких записей, как правило, шокирует. В качестве примера можно привести массовые беспорядки, которые произошли в Лос-Анджелесе после обнародования видеозаписи ареста человека по имени Родни Кинг, сделанной в 1991 году оператором-любителем с помощью новой портативной видеокамеры. События всегда интерпретируются в терминах господствующих идеологических категорий, и соответствующие формулировки незамедлительно обнаружились – избиение на расовой почве. Однако в истории с Родни Кингом шокировал не расовый аспект происходившего на видеозаписи, а само избиение, которое выглядело совершенно не так, как, по нашему мнению, должно выглядеть насилие. Визуальные свидетельства насилия демонстрируют нам нечто такое, что мы не готовы увидеть. Если обратиться к широкому спектру инцидентов, к множеству различных этнических комбинаций как внутри, так и поверх границ этнических групп (некоторые из них мы рассмотрим в главах 2 и 3), то мы обнаружим во многом одну и ту же картину. Расизм может вносить свою лепту в нагнетание отдельных ситуаций, в которых происходит насилие, но он является лишь одним из ряда вводных условий – причем ни необходимым, ни достаточным. Между тем насильственная ситуация сама по себе обладает более глубокой динамикой, нежели расизм.




