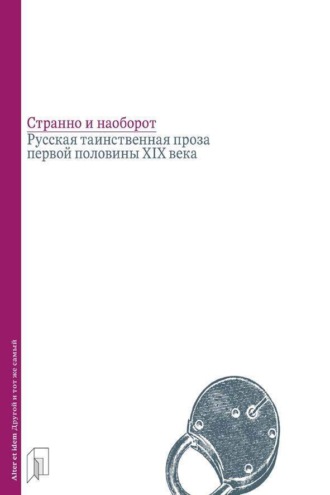
Полная версия
Странно и наоборот. Русская таинственная проза первой половины XIX века
– Ложись, жена, – говорил Георгий, – и ты, Петр, да и ты, Зденка. Не тревожьтесь ни о чем, я сам посижу вместо вас.
– Но, Георгий, – отвечала жена, – скорее же мне бы не ложиться; ты всю прошлую ночь работал и, верно, устал. Да к тому же мне присмотреть надо за старшим мальчиком. Ты знаешь, что он со вчерашнего дня недужится!
– Будь покойна и ложись; я посижу за нас обоих.
– Братец, – сказала Зденка своим тихим и ласковым голосом, – кажется, совсем никому не нужно сидеть: отец спит, и посмотри, какой у него спокойный вид.
– Ни жена, ни ты, никто из вас ничего не смыслит! – отвечал Георгий тоном, не допускавшим никаких возражений. – Говорю вам, ложитесь и оставьте меня настороже.
За этим воцарилось глубочайшее молчание. Скоро и я почувствовал, как веки мои отяжелели и сон оковал меня.
И вот, вижу я, дверь в мою комнату тихо отворяется и входит старик Горша. Но я скорее догадываюсь о его присутствии, чем вижу его, потому что в той комнате, откуда он вышел, темно. Мне чудится, что он своими угасшими глазами ищет угадать мои мысли и следить за моим движением. Вот он движет одной ногой, вот поднял другую. Затем с величайшей осторожностью, неслышными шагами, он подходит ко мне. Еще мгновение, он делает прыжок, и вот он подле моей кровати… Я испытывал невыразимый ужас, но какая-то непобедимая сила делала меня недвижимым. Старик нагнулся надо мной и приблизил свое бледное лицо к моему так близко, что я чувствовал его могильное дыхание. Я сделал тогда неестественное усилие и проснулся, обливаясь холодным потом… В комнате никого не было; но, взглянув в окно, я различил старика Горшу, который с той стороны прильнул лицом к стеклу и не спускал с меня своих страшных глаз. У меня достало силы не закричать, и оказалось настолько присутствия духа, что я не вскочил с постели, будто и не видал ничего. Между тем, по-видимому, старик приходил только затем, чтоб удостовериться, сплю ли я, и не имел намерения войти; пристально посмотрев на меня, он отошел прочь от окна, и я слышал, как он принялся ходить в соседней комнате. Георгий заснул и храпел так, что чуть стены не дрожали. В это время закашлял ребенок, и я услыхал голос Горши.
– Ты не спишь, мальчуган? – сказал он.
– Нет, дедушка, – отвечал ребенок, – и мне бы очень хотелось с тобой поговорить.
– А, поговорить хочешь… о чем же станем мы говорить?
– Мне бы хотелось, чтобы ты рассказал мне, как ты воевал с турками, потому и я бы охотно пошел с ними подраться.
– Я подумал об этом, дитятко, и принес маленький ятаган, который дам тебе завтра.
– Ах, дедушка, дай лучше сейчас, ты ведь не спишь.
– Отчего, мальчуган, ты со мной днем не говорил?
– Оттого что отец запретил.
– Он осторожен, твой отец. Так тебе хочется ятаганчик получить?
– Очень хочется, только не здесь, потому отец может проснуться.
– Где же?
– А выйдем отсюда, дедушка, на улицу, потихонечку, чтобы никто не слыхал.
Мне послышалось, будто Горша глухо засмеялся, а мальчик принялся вставать.
Я не верил в вампиров, но кошмар, выдержанный мной сейчас, подействовал на мои нервы, и, не желая упрекать себя потом в чем бы то ни было, я встал и ударил кулаком в перегородку. Удар мой был так силен, что мог бы, казалось, разбудить и семерых спящих арабской сказки, но в семье никто не проснулся.
Я кинулся к двери, решась спасти ребенка, но нашел ее запертой снаружи, а замок не уступил моим усилиям. Пока я старался выломать дверь, я увидал в окно старика, проходившего мимо с ребенком на руках.
– Вставайте, вставайте! – кричал я изо всех сил, потрясая перегородку ударами кулаков. Тогда только Георгий проснулся.
– Где старик? – спросил он.
– Ступай скорее, – кричал я, – он унес вашего ребенка.
Одним ударом ноги Георгий вышиб дверь, которая, как и моя, оказалась запертой снаружи, и бросился бежать по направлению к лесу. Я насилу разбудил Петра, его невестку и Зденку. Мы собрались перед домом и через несколько минут ожидания увидали возвращавшегося Георгия с мальчиком на руках. Он нашел его без чувств на большой дороге, но мальчик скоро пришел в себя и не казался больнее прежнего. На вопросы он отвечал, что дедушка ему ничего не сделал, что они вышли вместе, чтобы лучше поговорить, но только что очутились на воздухе, мальчик лишился чувств сам не помнит как. А Горша исчез.
Остальную часть ночи мы, конечно, уже провели без сна.
На следующее утро я узнал, что по реке, которая пересекала большую дорогу в четверти мили от деревни, шел лед, что бывает здесь осенью и весной. Переправа стала невозможной на несколько дней, и мне нечего было и думать об отъезде. Впрочем, если б я и мог уехать, то все-таки любопытство, да и другое чувство при этом удерживали меня. Чем более я видел Зденку, тем более чувствовал к ней влечение. Я, mesdames, не из тех людей, которые верят во внезапную и непреодолимую страсть, столь часто встречаемую в романах; но думаю, что бывают случаи, когда любовь развивается быстрее, нежели обыкновенно. Оригинальная красота Зденки, ее странное сходство с герцогиней де-Грамон, от которой я бежал из Парижа и которую теперь находил тут, в живописном костюме, говорящую на чужом, звучном языке, эта характерная черточка на лбу, из-за которой я двадцать раз хотел лишить себя жизни, – все это, соединенное с особенностью моего положения и всем тем чудесным, среди чего очутился я, теперь способствовало развитию в душе моей такого чувства, которое при других обстоятельствах сказалось бы лишь вскользь и слегка.
В течение дня я услыхал, как Зденка говорила меньшому брату:
– Что́ ты обо всем этом думаешь, Петро? Неужели и ты подозреваешь отца?
– Я не смею его подозревать, тем более что мальчик говорит, что он ему не сделал никакого вреда. А если он и исчез так внезапно, то ты ведь знаешь, что и ранее этого он всегда так делал и никогда никому не отдавал отчета в своих отлучках.
– Знаю, – отвечала Зденка, – а потому нужно спасти его: ты ведь знаешь Георгия…
– Знаю, знаю. Говорить с ним бесполезно; а вот мы спрячем кол его, а за другим он не пойдет; по сю сторону гор ведь ни одной осины не найти.
– Да, да, спрячем кол, но только не скажем об этом детям; они проболтались бы при Георгии.
– Осторожно надо, конечно, – сказал Петр, и они разошлись.
Наступила ночь; о старике Горше не было ни слуху, ни духу. Я, как накануне, лежал у себя на кровати, и луна полным светом заливала комнату. Когда сон уже начал путать мои мысли, я вдруг как бы инстинктивно почувствовал близость старика. Я открыл глаза и увидал его бледное лицо, прильнувшее к окну. На сей раз я хотел встать, но это оказалось невозможным: члены мои были точно парализованы. Пристально посмотрев на меня, старик отошел от окна, и я слышал, как он обошел вокруг дома и постучался в окно комнаты, где спали Георгий с женой. Ребенок зашевелился и простонал во сне. На несколько времени все затихло, потом снова раздался стук в окошко. Ребенок снова застонал и проснулся.
– Это ты, дедушка? – проговорил он.
– Я, – отвечал глухой голос. – Я принес тебе ятаганчик.
– Да я не смею уйти, отец запретил!
– Тебе и незачем уходить из дому, открой мне только окошко и поцелуй меня!
Ребенок встал, и я услыхал, как отворилось окно. Тогда, собрав все свои силы, я соскочил с постели и стал колотить в перегородку. Георгий тотчас же проснулся и встал. Я услышал, как он ругнулся; жена его громко вскрикнула, а через миг весь дом стоял кругом обомлевшего ребенка… Горша исчез, как накануне. С трудом привели мы мальчика в чувство, но он был очень слаб и еле дышал. Бедняжка не знал причины своего обморока. Мать и Зденка приписывали его страху ребенка, что его застали в запрещенном разговоре с дедушкой. Я ничего не говорил. Когда малютка успокоился, все, кроме Георгия, снова улеглись.
На заре я услыхал, что Георгий будит жену, потом они стали шептаться; к ним присоединилась Зденка, и я различал ясно, что женщины плакали.
Ребенок умер. Прохожу молчанием отчаяние семьи. Meжду тем никто не приписывал его смерти старику Горше. По крайней мере, открыто этого никто не говорил.
Георгий молчал, но выражение его лица, всегда пасмурное, было теперь страшно. Старик не показывался дня два. В ночь на третьи сутки (когда похоронили малютку) мне показалось, что кто-то бродит вокруг дома и точно кто-то зовет по имени оставшегося в живых мальчика. Мне показалось даже, что на мгновение старик Горша заглянул в мое окошко, но я не мог дать себе отчета, было ли это на самом деле, или мне только представилось, так как в ту ночь луна была задернута тучами. Я все-таки счел нужным сообщить об этом Георгию. Тот стал допытываться у ребенка, который отвечал, что действительно слышал, как его звал дедушка, и что он видел его в окно. Георгий строго-настрого приказал сыну разбудить себя, как только старик появится вновь…
Все эти обстоятельства нисколько не мешали развиваться чувству нежности моей к Зденке.
Днем я не мог говорить с ней наедине. Когда наступила ночь, мысль о близком отъезде болезненно заныла во мне. Комната Зденки была отделена от моей сенями, которые с одной стороны вели на улицу, а с другой во двор. Хозяева мои уже улеглись, когда мне пришла мысль пойти побродить по деревне, чтобы несколько рассеяться. Выйдя в сени, я увидал, что дверь в комнату Зденки была приотворена.
Я невольно остановился.
Знакомый шорох платья заставил забиться мое сердце. Вслед за этим до меня донеслась напеваемая вполголоса песня. Это было прощание со своей красавицей одного сербскаго краля [Имеется в виду сербский король.], отправлявшегося на войну.
«“О мой юный тополь, – говорил старый краль, – я ухожу на войну, и ты забудешь меня.
Деревья, растущие у подножья горы, стройны и гибки, но стройнее и гибче твой юный стан. Красны ягоды рябины, что́ колышет ветер, но уста твои алее рябиновых ягод! А сам я что́ старый дуб без листьев, и борода моя белее, чем пена Дуная! И ты забудешь меня, сердце мое, и умру я с тоски, потому не посмеет ворог убить старого краля”.
И отвечала красавица: “Клянусь остаться тебе верной и не забыть тебя вовек. Если нарушу я клятву, то приди по смерти своей и высоси из сердца моего кровь”.
И сказал старый краль: “Аминь!” И ушел он на войну. И красавица его скоро забыла!..»
Тут Зденка замолкла, точно боялась кончать песню. Я уже более не сдерживал себя. Этот нежный выразительный голос был положительно голос герцогини де-Грамон… Забыв все на свете, я толкнул дверь и вошел. Зденка только что сняла с себя что-то вроде казакина, что́ носят там женщины. Одна шитая золотом и красным шелком рубашка и пестрая юбка, стянутая у талии, облекали теперь ее стройные члены. Ее прекрасные белокурые косы были расплетены, и в этой полуодежде еще обаятельнее рисовалась передо мной ее красота. Не рассердясь, по-видимому, на меня за мое внезапное вторжение, она однако смутилась и слегка покраснела.
– Ах, зачем ты пришел, – заговорила она, – и что́ подумают обо мне, если застанут нас вместе?
– Зденка, жизнь моя, будь покойна, – сказал я ей, – все кругом спит, только один кузнечик в траве да стрекоза в воздухе могут услышать то, что́ нужно мне сказать тебе.
– Уйди, уйди, милый, увидит нас брат, – я погибла!
– Зденка, я не уйду отсюда до тех пор, пока ты не обещаешь мне любить меня всегда, как обещала своему кралю красавица в твоей песне. Я скоро уезжаю, Зденка; кто знает, когда мы снова увидим друг друга? Зденка, я люблю тебя больше души своей, больше спасения моего… жизнь и кровь моя – твои… Неужели ты не дашь мне и часа времени?
– Многое может случиться в течение часа, – задумчиво ответила Зденка, но оставила свою руку в моей. – Ты не знаешь моего брата, – продолжала она, вздрагивая, – у меня есть предчувствие, что он придет.
– Успокойся, Зденка моя, – сказал я ей, – брат твой устал от бессонных ночей, его убаюкал ветер, что́ шелестит в деревьях; глубок его сон, длинна наша ночь, и я прошу у тебя только часа!.. А потом прости и, может быть, навсегда.
– О нет, нет, не навсегда! – живо заговорила Зденка и отшатнулась от меня, будто испугавшись своего голоса.
– О Зденка, – воскликнул я, – тебя одну я вижу, тебя лишь слышу, я более не волен в себе, я послушен какой-то высшей власти, прости мне, Зденка!
И как безумный я прижал ее к сердцу.
– Нет, ты не друг мне, – сказала она, вырываясь из моих рук, и забилась в глубь комнаты.
Не знаю, что отвечал я ей в эту минуту, так как сам испугался вдруг своей смелости, не потому, чтоб она в подобных случаях не помогала мне, а потому что, несмотря на увлечение страсти, я повиновался неотразимому чувству уважения к невинности Зденки.
Правда, я попытался было начать какие-то медовые любезности, которые имели, вообще, успех у красавиц тогдашнего времени, но вскоре сам устыдился их и умолк, видя, что молодая девушка в простоте своей и не догадывалась даже о том смысле этих речей, который вам, mesdames, вижу по вашим улыбкам, понятен с полуслова.
Итак, я стоял перед ней, не зная, что делать, как вдруг она вздрогнула и устремила в окно испуганный взор.
Я следил за направлением ее глаз и ясно увидал старого Горшу, смотревшего на нас в окошко.
В ту же минуту я почувствовал, как тяжелая рука опустилась мне на плечо.
Я обернулся. То был Георгий.
– Что ты здесь делаешь? – спросил он меня.
Смущенный этим внезапным обращением, я указал ему на его отца, который все еще стоял у окна и исчез, лишь только Георгий его заметил.
– Я услыхал старика и пришел предупредить сестру твою, – сказал я.
Георгий посмотрел на меня так, будто хотел проникнуть взглядом до самой глубины моей души. Затем, взяв меня за руку, он привел меня в мою комнату и вышел, не сказав ни слова.
На следующий день семья сидела перед дверью дома, за столом, уставленным молочной пищей.
– Где мальчик? – спросил Георгий.
– На дворе, – отвечала мать, – он играет в свою любимую игру, воображает, что дерется с турками.
Только что выговорила она это, мы, к нашему крайнему изумлению, увидали огромную фигуру старого Горши, медленно шедшего к нам из лесу, точь-в-точь как это было в день моего приезда.
– Милости просим, батюшка, – промолвила еле слышно его невестка.
– Милости просим, батюшка, – повторили тихо Зденка и Петр.
– Батюшка, – сказал Георгий твердым голосом, но весь изменившись в лице, – мы ждем тебя, чтобы ты прочел молитву!
Старик отвернулся, сдвинув брови.
– Сию же минуту читай молитву, – повторил Георгий, – да перекрестись, или… клянусь Св. Георгием…
Зденка и ее невестка нагнулись к старику, умоляя его прочитать молитву.
– Нет, нет и нет, – отвечал тот. – Он не смеет мне приказывать, а если будет настаивать на своем, я прокляну его!
Георгий встал и бросился в дом. Он вскоре вернулся с бешенством во взгляде.
– Где кол? – закричал он. – Куда вы дели кол?
Зденка и Петр переглянулись.
– Труп! – сказал тогда Георгий старику. – Что́ ты сделал с моим старшим сыном? Отдай мне сына, труп!
Так говоря, он становился все бледнее, и глаза его разгорались полымем.
Старик смотрел на него недобрым взглядом и не шевелился.
– Да где же этот кол, кол где? – воскликнул Георгий. – Пусть на голову того, кто его спрятал, обрушатся все несчастья, которые нас ждут.
В эту минуту раздался веселый смех меньшего мальчика, и он выехал к нам верхом на огромном колу, который волочил за собой, крича так, как кричат сербы, вступая в бой с неприятелем.
При этом появлении Георгий вспыхнул весь, выхватил у ребенка кол и бросился на отца. Тот испустил какой-то рев и кинулся бежать по направлению к лесу с такой быстротой, что по его годам это казалось сверхъестественным.
Георгий гнался за ним через поле, и они вскоре исчезли у нас из виду.
Солнце уже зашло, когда Георгий вернулся домой, бледный как смерть, со взъерошенными волосами. Он сел к огню, и мне показалось, что зубы у него стучали. Никто не осмелился его расспрашивать. Когда наступил час, когда семья обыкновенно расходилась, он, казалось, вполне овладел своей прежней энергией; отозвав меня в сторону, он сказал мне самым непринужденным тоном:
– Дорогой гость, я был на реке, она очистилась ото льда, проезд есть, и ничто не задерживает тебя здесь более. Тебе нет надобности прощаться с моей семьей, – прибавил он, взглянув на Зденку. – Она тебе моими устами желает всякого благополучия и надеется, что и ты о нас сохранишь доброе воспоминание. Завтра чем свет ты найдешь лошадь свою оседланной и проводника, готового пуститься с тобой в путь. Прощай, вспоминай иногда своих хозяев и прости им, если твоя жизнь у них не была такой спокойной, как бы ты желал.
Жесткие черты Георгия в эту минуту казались почти дружелюбными. Он проводил меня в мою комнату и пожал мне руку в последний раз. Потом снова вздрогнул, и снова зубы его застучали точно от холода.
Оставшись один, я и не подумал ложиться, как вы себе легко можете представить. Разные мысли теснились в моей голове. Я уже несколько раз в жизни любил. Я испытал припадки и нежности, и досады, и ревности, но никогда еще, даже во время разлуки с герцогиней де-Грамон, я не ощущал такой тоски, какая в настоящую минуту сжимала мне сердце. Еще солнце не взошло, как я уже облекся в свое дорожное платье и думал сделать последнюю попытку увидаться со Зденкой, но Георгий уже ждал меня в сенях. Всякая возможность свидания с ней исчезла.
Я вскочил на лошадь и дал ей шпоры. Я обещал себе на возвратном пути из Ясс завернуть в эту деревню, и эта надежда, хотя и отдаленная, мало-помалу развеяла мои грустные мысли. Я уже с удовольствием думал о своем возвращении, и разыгравшееся воображение заранее рисовало мне сладостные подробности, как вдруг неожиданное движение моей лошади чуть не выбило меня из седла. Конь стал, вытянул передние ноги и фыркнул, как бы чуя близкую опасность. Я внимательно огляделся во все стороны и увидел шагах в ста от нас волка, рывшегося в земле. Заметив нас, он бросился бежать. Я вонзил шпоры в бока моего скакуна и заставил его двинуться с места. Я увидал тогда на том месте, где рылся волк, свежевырытую яму. Кроме того, мне показалось, что там на несколько вершков над землей торчал кол. Впрочем, я этого за верное не утверждаю, так как очень быстро проехал мимо этого места.
Здесь маркиз остановился и взял щепотку табаку.
– Как, и все? – спросили дамы.
– Увы, не все! – отвечал д’Юрфе. – То, что́ мне теперь придется вам рассказывать, мне очень тяжело вспоминать, и я дорого бы дал, чтоб освободить себя от этого воспоминания. Дела, по которым я прибыл в Яссы, задержали меня там долее, нежели я предполагал. Для приведения их к концу требовалось полгода. Как вам сказать? Печальная истина, но тем не менее все-таки истина, что на свете нет прочных чувств. Успех моих переговоров, одобрения, получаемые мной от Версальскаго кабинета, словом, политика, эта противная политика, наделавшая нам столько хлопот, и за это последнее время не преминула ослабить в моем сердце воспоминания о Зденке. К тому же прибавьте, что супруга господаря Молдавского, красавица и в совершенстве владевшая нашим языком, стала видимо отличать меня из среды других молодых иностранцев, находившихся в то время в Яссах. Воспитанный в правилах французской любезности, с галльской кровью в жилах, я не мог, конечно, отвечать неблагодарностью на лестные для меня знаки внимания красавицы, и в видах интересов Франции, которой имел честь быть представителем при ее супруге, постарался усердно доказать, насколько почитал приятнейшим для себя долгом повиноваться желаниям его прекрасной половины. Настоящие выгоды моего отечества я всегда разумел, mesdames, как вы видите…
Отозванный на родину, я возвращался той же дорогой, которой ехал в Яссы.
Я более не думал ни о Зденке, ни о ее семье, когда однажды, едучи полем, услыхал где-то колокол, прозвонивший восемь раз. Звук его показался мне как бы знакомым, и мой проводник сказал мне, что звонят в ближней обители. Я спросил, как она называется, и узнал, что то был монастырь Божьей Матери под дубом. Я немедленно пришпорил лошадь и вскоре очутился у монастырских врат. Отшельник впустил нас и указал помещение для приезжих, но оно было битком набито богомольцами, и я спросил, нельзя ли найти ночлег где-нибудь в деревне.
– Да и не один найдется, – отвечал, тяжело вздыхая, отшельник. – Благодаря проклятому Горше, там много пустых домов стало.
– Что́ это значит? Разве старый Горша еще жив?
– Нет, он-то должным порядком лежит в сырой земле, пронзенный колом в сердце… Но он высосал кровь внуку, маленькому сыну Георгия. Мальчик пришел однажды ночью, плача и говоря, что ему холодно, и просил, чтоб его впустили. Дура мать, несмотря на то что сама его хоронила, не имела духа отправить его снова на кладбище и впустила его. Он тогда бросился на нее и засосал ее до смерти. Когда ее схоронили, она в свою очередь пришла за кровью своего меньшего сына, потом высосала кровь у мужа и у деверя. Всех постигла одна участь.
– А Зденка? – спросил я трепетно.
– Ну, эта помешалась с горя, бедняжка! Лучше и не говорить о ней…
Ответ старика был загадочен, но у меня не стало духа спрашивать далее.
– Вампиризм заразителен, – продолжал отшельник. – Много семей в деревне страдают им, много семей вымерло до последнего члена, и если хочешь послушаться меня, останься на ночь в монастыре; если тебя в деревне и не съедят вурдалаки, так все же натерпишься столько страху, что голова твоя поседеет как лунь, прежде чем успею я прозвонить к заутрене. Я хоть и бедный монах, – продолжал он, – но щедроты путешественников дают мне возможность заботиться обо всех их нуждах. Есть у меня отличный творог и такой изюм, что у тебя от одного вида его слюнки потекут; найдется и несколько бутылок токайского, которое не уступит и тому, что́ подается за столом его святейшества патриарха…
Мне показалось, что в эту минуту говорил скорее трактирщик, чем отшельник, что он нарочно рассказал мне обо всех этих ужасах, чтобы вызвать меня к подражанию в щедротах тем странникам, которые давали святому человеку возможность заботиться об их нуждах. Да и притом слово страх производило на меня всегда то же действие, как на боевого коня звук трубы. Мне бы самого себя стало стыдно, если б я тотчас затем не собрался в путь. Мой проводник, дрожа, попросил позволения остаться в монастыре, на что́ я охотно согласился.
И употребил около получаса, чтобы добраться до деревни, которую нашел пустой. Нигде ни огонька, ни песни. Молча проехал я мимо всех этих домов, по большей части мне знакомых, и достиг наконец избы Георгия. Было ли то романическим чувством или просто юношеской смелостью, только я решился ночевать здесь.
Я слез с лошади и постучался у ворот. Ответа не было. Я толкнул ворота, они растворились, визжа петлями, и я вошел на двор. Привязав под каким-то навесом моего коня, не расседлывая его, сам я направился к дому. Ни одна дверь не была заперта, а между тем в доме, казалось, никто не жил. Комната Зденки имела вид покинутой только накануне. Несколько платьев валялись еще на постели. Кое-какие золотые вещицы, подаренные мною, и между прочими небольшой эмаленный крестик, купленный мною в Пеште, блестели на столе при свете луны. Сердце во мне невольно сжалось, несмотря на то что любовь давно миновала… Я вздохнул, завернулся покрепче в плащ свой и улегся на кровати. Меня вскоре одолел сон. Не помню подробностей, но знаю, что привиделась мне тут Зденка, прелестная, наивная и любящая, как тогда, прежде. Я укорял себя, глядя на нее, за эгоизм свой и непостоянство. «Как же это мог я, – спрашивал я себя, – забыть эту милую девочку, которая так любила меня?» Мысль о ней вскоре смешалась с воспоминанием о герцогине де-Грамон, и в этих двух образах я уже видел одну и ту же особу. Я кинулся к ногам Зденки и умолял ее о прощении. Все существо мое, вся душа преисполнились каким-то невыразимым ощущением грусти и счастья… Так снилось мне, как вдруг я наполовину проснулся от какого-то приятного звука, подобного шелесту колосьев, колеблемых ветром. Мне почудились говор этих колосьев и пение птиц, к которым как бы примешивался отдаленный шум падающих вод и тихий шепот древесных листьев. Затем показалось мне, что все эти звуки сливались воедино – в шуршанье женского платья, – и на этой мысли я остановился. Открыв глаза, я увидал у своей кровати Зденку. Луна светила так ясно, что я хорошо мог различать мельчайшие подробности этих дорогих мне когда-то черт, но всю прелесть которых я как бы понял только сейчас, во сне. Мне показалось, что Зденка еще похорошела и развилась. На ней был тот же небрежный наряд, как в тот раз, когда я видел ее одну: простая рубашка, шитая золотом и шелком, и юбка, стянутая у талии.
– Зденка, – воскликнул я, быстро подымаясь на моем ложе. – Зденка, ты ли это?
– Да, это я, – отвечала она тихим и грустным голосом, – да, это твоя Зденка, которую забыл ты. Ах, зачем не вернулся ты раньше? Все теперь кончено; тебе нужно уезжать сейчас, еще мгновение, – и ты пропал! Прощай, друг мой, прощай навсегда!

