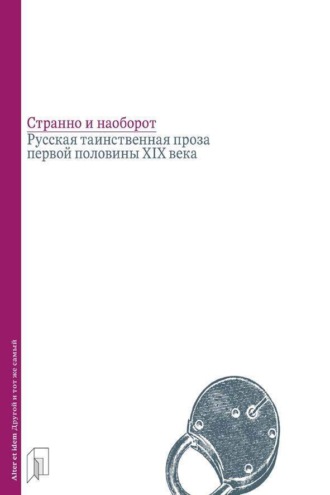
Полная версия
Странно и наоборот. Русская таинственная проза первой половины XIX века
Что это такое – «современная норма»? Все очень просто. Лишь в редчайших случаях (там, где это крайне необходимо) прямая речь оставлена в кавычках. Во всех остальных случаях речь персонажей выглядит так,
как это привычно нам, нынешним читателям: абзац, тире, а дальше – слова героя (героини).
Предвижу ропот и даже возмущение филологов и текстологов: как можно? Ведь у автора – кавычки! Надо все оставить так, как есть! Успокойтесь, пожалуйста, ревнители «оригинального текста». Уверяю вас: в разных изданиях девятнадцатого века эти «оригинальные тексты» выглядят по-разному. Не буду приводить примеры (их множество). Скажу совсем другое. О ком в первую очередь думает автор, сочиняя свое произведение? Отвечу с убежденностью: в первую очередь – о читателе! А уж во вторую, третью, восьмую очередь – о будущих филологах, литературных критиках, текстологах и прочих ревнителях, если думает о них вообще.
Потому что автору важно одно: чтобы читатель его понял и чтобы он, читатель, не спотыкался на несуразицах. Вот и я, словно услышав эти авторские пожелания, позаботился, чтобы нынешний читатель не слишком-то спотыкался.
Призову в поддержку совсем уж неожиданного для этого сборника человека – американского поэта Эдварда Эстлина Каммингса (он любил писать свои инициалы и фамилию строчными буквами, вот так: э.э. каммингс). Ох как намучался э.э. каммингс с редакторами и корректорами – ведь у него была собственная пунктуация, порой нарушающая все мыслимые грамматические нормы. В «Предисловии» к сборнику «Избранные стихотворения» 1938 года э.э. каммингс наконец-то обратился к читателю. И объяснил, что главная его забота – именно читатель, ему важно, чтобы читатель его понял, а если пунктуация кого-то смутит, пусть задумается: возможно, тем самым автор задает ему, читателю, вопрос. И сам автор – тоже отвечает на вопросы читателей, в том виде, в котором он их, эти вопросы, понимает или воображает. И в конце «Предисловия» – замечательные слова: «Всегда прекрасен ответ, который задает еще более прекрасный вопрос».
Мне тоже хотелось бы, чтобы эта книга послужила сборником ответов (даже грамматических), которые зададут читателям прекрасные вопросы.
Следует сказать и о тире. Их в этой книге очень много. Порой тире встречаются и внутри прямой речи, и внутри речи авторской – там, где по всем «грамматическим нормам» их не должно быть. Опять-таки предвижу ярость корректоров, которые набросятся на эти тире и примутся их искоренять. Очень вас прошу, уважаемые корректоры, не делайте этого! Для большинства писателей XIX века (равно как для многих писателей XX и XXI столетий, а если заглянуть в далекое прошлое, то к нам присоединятся авторы восемнадцатого, семнадцатого и даже шестнадцатого веков) тире – знак не грамматический, а интонационный. Этим тире автор приглашает читателя сделать небольшую паузу – немножко глотнуть воздуху, или чуть-чуть выдохнуть, или просто вздохнуть, – никаким иным целям такое тире не служит. Паузу можно сделать с помощью абзаца, даже с помощью интервала между абзацами, а можно привлечь для той же цели тире. Вот авторы, собранные в этом сборнике, и привлекали. Никакого моего произвола здесь нет, – я лишь оставил тире там, где их поместили авторы.
И последнее – об ударениях. В этой книге очень много ударений: то и дело встречаются и. Это сделано сознательно: авторы таким образом подчеркивали смысловые и интонационные акценты, и все авторские ударения сохранены. Здесь тоже нет никакого произвола с моей стороны.
Всё, заплатки закончились. Все прорехи залатаны, дальше – собственно таинственная проза.
Желаю всем держащим в руках эту книгу приятного и интересного чтения!
Да, вот еще что! Если будет на то воля «таинственной прозы» (а она особа капризная, прихотливая и своенравная), то, возможно, появится еще одна книга, которая будет называться «Русская таинственная проза второй половины XIX века».
Виталий Бабенко
«– Мой доклад сочинен на бумаге, – отвечал нечистый дух журналистики. – Как вашей мрачности угодно его слушать: романтически или классически?.. То есть снизу вверх или сверху вниз?
– Слушаю снизу вверх, – сказал Сатана.
– Я люблю романтизм: там все темно
и страшно и всякое третье слово бывает непременно мрак или мрачный – это по моей части».
Осип Сенковский.Большой выход у Сатаны«И теперь, когда я вздумаю о подобной кончине, то на мне проступает холодный пот и мертвеют ногти…»
Александр Бестужев-Марлинский.Кровь за кровь«Отец Маруси был казак зажиточный, а мать ее добрая хозяйка, так они и жили хорошо; а как дочь была у них одним-одна, то они в ней души не слышали…»
Владимир Иванович Даль.Упырь
Алексей Константинович Толстой (1817–1875) носил титул графа, как и многие Толсте. При этом он был чудесным русским писателем и великолепным поэтом. А в конце жизни удостоился звания члена-корреспондента Петербургской Академии наук. Остается только жалеть, что и проза, и поэзия А.К. Толстого отошла у нас куда-то на задний план, хотя, конечно же, это звезда первой величины. Здесь уместно сказать то, что написал о А.К. Толстом хороший, но забытый писатель Болеслав Михайлович Маркевич (эти слова читатель найдет и в примечании к названию рассказа): «Фантастический мир производил с юных и до последних лет на Толстого неотразимое обаяние…»
Алексей Константинович Толстой
Семья вурдалака
[Рассказ этот, вместе с другим, Свидание через 300 лет (Le rendez-vus dans trois cents ans), заключающимся в той же имеющейся у меня тетради покойного графа А.К. Толстого, принадлежат к эпохе ранней молодости нашего поэта. Они написаны по-французски, с намеренным подражанием несколько изысканной манере и архаическими оборотами речи conteur’ов Франции XVIII века. Это придает им в оригинале своеобразную прелесть, трудно передаваемую в переводе, но читатели оценят во всяком случае, не сомневаюсь, самый интерес помещаемого здесь рассказа и ту реальность ощущений, если можно так выразиться, которую автор сумел ввести в содержание чистого вымысла. Фантастический мир производил с юных и до последних лет на Толстого неотразимое обаяние… В те же молодые его годы напечатан был им по-русски, в малом количестве экземпляров и без имени автора, подобный же из области вампиризма рассказ под заглавием Упырь, составляющий ныне величайшую библиографическую редкость. Б. Маркевич. (См. Комментарий, с. 298.)]
Из воспоминаний неизвестного
(Неизданный рассказ графа А.К. Толстого)
1815 год привлек в Вену все, что́ было тогда самого изящного в среде европейских знаменитостей, блестящих салонных умов и людей, известных своими высокими политическими дарованиями. Это придавало городу необыкновенное оживление, яркость и веселость.
Конгресс приходил к концу. Эмигранты-роялисты готовились переселиться в возвращенные им за́мки, русские воины – вернуться к своим покинутым очагам, а несколько недовольных поляков – перенести в Краков свои грезы о свободе под покровом той сомнительной независимости, которая уготована была им тройной заботой князей Меттерниха и Гарденберга и графа Нессельроде.
Подобно тому, как под конец оживленного бала из общества, за миг перед тем многочисленного и шумного, остается иной раз лишь несколько человек, желающих еще повеселиться, некоторые лица, очарованные прелестью австрийских дам, не спешили укладываться, отлагая отъезд свой со дня на день.
Веселое это общество, к которому принадлежал и я, собиралось раза два в неделю в за́мке вдовствовавшей княгини Шварценберг, в нескольких милях от города, за местечком Гитцинг. Изящно барский тон хозяйки дома, ее грациозная любезность и тонкий ум имели для гостей ее невыразимую привлекательность.
Утро наше посвящалось прогулкам; обедали мы все вместе, либо в за́мке, либо где-нибудь в окрестностях, а по вечерам, сидя у не ярко пылавшего камина, беседовали и рассказывали друг другу разные истории. Говорить о политике было строго воспрещено. Всем она жестоко надоела, и рассказы наши почерпались или из поверий и преданий родной тому или другому из нас страны, или из наших личных воспоминаний.
Однажды вечером, когда уже все кое-что порассказали и воображение каждого из нас находилось в том напряженном состоянии, коему так способствуют обыкновенно полумрак и наступающее внезапно общее молчание, маркиз д’Юрфе, старый эмигрант, которого мы все очень любили за его почти юношескую веселость и остроумие, воспользовался этой наставшей минутой молчания и заговорил:
– Рассказы ваши, господа, – сказал он, – весьма необыкновенны, конечно, но мне сдается, что в них нет главного: именно, вашего личного в них участия. Я не знаю, видел ли из вас кто сам, собственными глазами, те сверхъестественные явления, о которых только что сообщалось нам, и может ли он подтвердить их своим честным словом?
Мы должны были согласиться, что никто из нас сделать это не мог, и старик продолжал, оправляя свое жабо:
– Что до меня, господа, то я знаю один лишь случай в этом роде, но случай этот так странен, страшен и главное достоверен, что его одного достаточно, чтобы навести ужас на воображение самого недоверчивого человека. Я, к несчастью, сам был тут и свидетелем, и действующим лицом, и хотя я обыкновенно не люблю о нем вспоминать, но на сей раз охотно расскажу вам этот случай, если только дадут мне на это дозволение прелестные дамы наши.
Согласие немедленно последовало общее. Несколько пугливых взоров обратились, правду сказать, по направлению к светящимся четырехугольникам, которые начинала выводить луна на гладком паркете покоя, где мы находились, но вскоре маленький кружок наш сдвинулся потеснее, и все замолкли в ожидании повести маркиза. Он вынул из золотой табакерки щепотку табаку, медленно потянул ее и начал так:
– Прежде всего, mesdames [Mesdames (фр.) – здесь и далее: сударыни.], я попрошу у вас извинения, если в течение моего рассказа мне случится говорить о своих сердечных делах чаще, нежели прилично это человеку моих лет. Но упоминать о них я должен для большей ясности моего рассказа. Впрочем, старости простительно иногда забываться, и никто, кроме вас, не будет в том виноват, mesdames, если в вашем кругу я воображу себя на миг опять молодым человеком. Итак, скажу вам без дальнейших оговорок, что в 1769 году я был страстно влюблен в хорошенькую герцогиню де-Грамон. Эта страсть, которую я в ту пору почитал неизменно глубокой, не давала мне покоя ни днем, ни ночью, а герцогиня, как большинство хорошеньких женщин, своим кокетством удваивала мои мучения, так что наконец в минуту досады я решился испросить и получил дипломатическое поручение к Молдавскому господарю, у которого шли тогда переговоры с Версальским кабинетом о делах, имевших в ту пору для Франции некоторую важность. Накануне моего отъезда я отправился к герцогине. Она приняла меня уже не так насмешливо, как прежде, и заговорила с некоторым волнением:
– Д’Юрфе, вы поступаете безумно. Но я вас знаю и знаю, что вы никогда не измените раз принятому вами решению. Итак, я вас прошу лишь об одном: примите этот маленький крест как знак моей искренней дружбы и носите его до вашего возвращения сюда. Это семейная святыня наша, которую все мы высоко ценим.
С галантностью, пожалуй, даже неуместной в эту минуту, я поцеловал не семейную святыню, а прелестную ручку, подававшую мне ее, и надел на шею вот этот крест, которого уже не снимал с тех пор.
He стану утомлять вас, mesdames, ни подробностями моего путешествия, ни наблюдениями своими над венграми и сербами, этим бедным, но храбрым и честным народом, который, несмотря на все свое порабощение турками, не забыл ни своего достоинства, ни своей прежней независимости. Достаточно, если скажу вам, что, выучась как-то по-польски в пору одного моего довольно продолжительного пребывания в Варшаве, я скоро справился и с сербским языком, так как эти два наречия, как и русское с чешским, составляют лишь ветви одного и того же языка, называемого славянским.
Я разумел таким образом уже достаточно по-сербски, чтобы меня понимали, когда однажды очутился в одной деревушке, название которой для вас безразлично. Я нашел хозяев дома, в котором остановился, в каком-то смятении, показавшемся мне тем более странным, что это было в воскресенье, день, когда сербы предаются различным удовольствиям – пляскам, стрельбе в цель, борьбе и т. п. Приписав настроение моих хозяев какому-нибудь только что случившемуся несчастью, я уже собрался было покинуть их, когда ко мне подошел человек лет тридцати, высокий ростом, внушительного вида, и взял меня за руку…
– Войди, войди, чужеземец, – сказал он, – не пугайся нашей грусти; ты поймешь ее, когда узнаешь, отчего она происходит.
И он рассказал мне, что его престарелый отец, по имени Горша, человек беспокойного и буйного нрава, поднялся однажды утром с постели и, сняв со стены длинную турецкую винтовку: «Дети, – сказал он своим двоим сыновьям, Георгию и Петру, – я ухожу в горы к храбрецам, которые гоняются за собакой Алибеком (так звали одного турецкого разбойника, разорявшего в то время окрестность). Ждите меня десять дней; если же я в десятый день не вернусь, отслужите по мне панихиду, потому что, значит, я буду убит. Если же, – прибавил старый Горша, принимая серьезный вид, – если (чего вас Боже избави) я приду по истечении означенных десяти дней, ради спасения вашего не впускайте меня к себе. Приказываю вам тогда забыть, что я отец вам, и пронзить меня осиновым колом, что́ бы я ни говорил и что́ бы ни делал; потому тогда вернувшийся будет уже не я, а проклятый вурдалак, пришедший за тем, чтобы высосать кровь вашу».
Кстати будет сказать вам, mesdames, что вурдалаки – «вампиры» славянских народов – не что́ иное, по местному мнению, как тела умерших, выходящие из могил, чтобы высосать кровь живых. Вообще, их обычаи те же, что́ и у вампиров других стран, но есть у них, кроме того, особенность, делающая их еще более опасными. Вурдалаки, mesdames, высасывают предпочтительно кровь своих ближайших родных и лучших друзей, которые, умерши, в свою очередь превращаются в вампиров, так что, говорят, в Боснии и Герцеговине есть целые деревни, жители коих – вурдалаки.
Аббат Августин Кольмэ в своем любопытном сочинении о привидениях приводит страшные тому примеры. Германские императоры назначали много раз целые комиссии для расследования случаев вампиризма. Вели следствия, вырывали из земли трупы, которые оказывались налитыми кровью, их сжигали на площадях, предварительно пронзив им сердце. Свидетельства должностных лиц, присутствовавших при этих казнях, утверждают, что они слышали, как трупы стонали, когда палач вонзал им в сердце кол. Сохранились формальные, клятвенные показания этих лиц, скрепленные подписью их и печатью.
Принимая это во внимание, вам не трудно будет, mesdames, понять, какое действие произвели слова Горши на его сыновей. Оба кинулись к его ногам, умоляя пустить их за него в горы, но он вместо всякого ответа повернул им спину и удалился, затянув припев какой-то старой эпической песни. В тот день, когда я приехал в их деревню, кончался срок, назначенный Горшей, и мне теперь не трудно было объяснить себе тревогу его детей.
Это была хорошая и честная семья. Георгий, старший из сыновей, с мужественными и правильными чертами лица, казался человеком решительным и серьезным. Он был женат и имел двоих детей. У брата его, Петра, красивого восемнадцатилетнего юноши, в выражении лица было более мягкости, чем отваги; он был, по-видимому, любимцем своей меньшей сестры Зденки, которую можно было поистине назвать типом славянской красоты. Кроме этой неоспоримой во всех отношениях красоты, меня сразу поразило в ней какое-то отдаленное сходство с герцогиней де-Грамон: в особенности какая-то характерная черточка на лбу, которую я встретил в жизни только у этих двух особ; эта черточка, пожалуй, сразу могла и не понравиться, но становилась неотразимо обаятельной, когда к ней поприглядишься…
Был ли я тогда уж чересчур молод, или это сходство, соединенное с оригинальным и наивным умом Зденки, было в самом деле так неотразимо, но только я, не поговорив с ней и двух минут, уже чувствовал к ней такую симпатию, которая угрожала превратиться в чувство более нежное, если б я продлил свое пребывание в этой деревушке.
Мы все сидели за столом, на котором был поставлен творог и кринка с молоком. Зденка пряла, ее невестка готовила ужинать детям, игравшим тут же в песке. Петр с кажущейся беспечностью посвистывал, чистя ятаган, длинный турецкий нож. Георгий, облокотясь о стол и подперев руками голову, не сводил глаз с большой дороги, не говоря ни слова.
Я же, смущенный общим тоскливым настроением, смотрел невесело на вечерние облака, окаймлявшие золотистую глубь неба, и на монастырь, высившийся из-за недальнего соснового леса.
Этот монастырь, как я узнал потом, когда-то славился своей чудотворной иконой Божьей Матери, которую, по преданию, ангелы принесли и повесили на ветвях дуба. Но в начале прошлого столетия турки вторглись в страну, передушили монахов и разорили обитель. Оставались одни стены да часовня, где служил какой-то отшельник; он же показывал путешественникам развалины и давал приют богомольцам, ходившим на поклонение от одной святыни к другой и любившим оставаться в монастыре Божьей Матери под дубом. Как сказано, все это узнал я впоследствии, так как в тот вечер голова моя была занята уже отнюдь не археологией Сербии. Как часто случается, когда дашь волю воображению, я весь углубился в воспоминания о прежних днях, о прекрасной поре моего детства, о моей милой Франции, которую я покинул для отдаленного и дикого края.
Думал я и о герцогине де-Грамон и, чего греха таить, думал и о некоторых других современницах ваших бабушек, mesdames, образы которых как-то помимо воли стучались в двери моего сердца вслед за образом прелестной герцогини.
Вскоре я забыл и о своих хозяевах, и об их тревоге.
Вдруг Георгий прервал молчание.
– Жена, – сказал он, – в котором часу старик ушел?
– В восемь часов, – отвечала жена, – я слышала, как ударили тогда в монастырский колокол.
– Хорошо, – продолжал Георгий, – теперь, стало быть, не более половины восьмого.
И он замолк, снова вперив взор на большую дорогу, уходившую в лес.
Я забыл вам сказать, mesdames, что когда сербы подозревают кого-нибудь в вампиризме, они избегают называть его по имени или прямо упоминать о нем, потому что таким образом его вызывают из могилы. Поэтому с некоторых пор Георгий, говоря об отце, не называл его иначе как старик.
Несколько минут длилось молчание; вдруг один из мальчиков сказал Зденке, дергая ее за передник:
– Тетя, когда же дедушка вернется домой?
Георгий отвечал на этот неуместный вопрос пощечиной.
Ребенок заплакал, а маленький его брат сказал с удивленным и испуганным видом:
– Зачем ты, батя, запрещаешь говорить нам о дедушке?
Другая пощечина заставила его умолкнуть. Дети разревелись, а семья принялась креститься. В эту минуту часы в монастыре медленно пробили восемь. Только что раздался первый удар часов, как мы увидели выходившую из леса и приближавшуюся к нам человеческую фигуру.
– Это он! слава Богу! – воскликнули разом Зденка, Петр и его невестка.
– Сохрани нас Боже, – торжественно сказал Георгий, – как узнать, миновали или нет назначенные им десять дней?
Все в ужасе на него взглянули. Между тем человеческая фигура подходила все ближе. То был высокий старик с седыми усами, с бледным и строгим лицом, с трудом тащившийся с помощью палки. По мере того как он приближался, Георгий становился все мрачнее. Подойдя к нам, новоприбывший остановился и обвел свою семью взором, который, казалось, ничего не видел, – до того были тусклы и впалы его глаза.
– Ну, – сказал он глухим голосом, – что́ же никто не встает встречать меня? Что́ значит это молчание? Не видите вы разве, что я ранен?
Действительно, левый бок у старика был весь в крови.
– Поддержи же отца, – сказал я Георгию, – а ты, Зденка, дай ему чего-нибудь подкрепиться, иначе он сейчас лишится сил!
– Отец, – сказал Георгий, подходя к Горше, – покажи мне свою рану, я в них толк знаю и перевяжу тебе ее…
Он только что собрался скинуть с него верхнюю одежду, как старик грубо оттолкнул его и схватился за бок обеими руками.
– Оставь, неуклюжий, – сказал он, – ты мне только больнее сделал.
– Стало быть, ты в сердце ранен! – воскликнул весь бледный Георгий. – Снимай, снимай платье, нужно это, слышишь, нужно!
Старик встал и выпрямился во весь рост.
– Берегись, – сказал он глухо, – только тронь меня, я тебя прокляну!
Петр стал между Георгием и отцом.
– Оставь его, ты видишь, он страдает.
– Не перечь ему, – сказала жена, – ты знаешь, он этого никогда не терпел.
В эту минуту мы увидали возвращавшееся домой стадо, шедшее по направлению к дому в целом облаке пыли. Не узнала ли собака, сопровождавшая стадо, своего старого хозяина, или что́ другое повлияло на нее, но лишь только заметила она Горшу, она остановилась, ощетинилась и зарычала вся дрожа, точно видела что-либо необыкновенное.
– Что́ с этим псом? – сказал старик, все более и более хмурясь. – Что́ все это значит? Что́ я, чужим стал в своей семье? Десять дней в горах разве так меня изменили, что собственные мои собаки не узнают меня?
– Слышишь? – сказал Георгий жене.
– Что́, Георгий?
– Он сам сказал, что десять дней миновали.
– Да нет же, ведь он пришел в назначенный срок.
– Ладно, ладно; знаю я, что́ нужно делать!
– А проклятый пес все еще воет… Застрелить его! – воскликнул Горша. – Слышите?
Георгий не пошевелился, а Петр, со слезами на глазах, встал, поднял отцовскую винтовку и выстрелил в собаку, которая покатилась в пыли.
– Это любимица моя была, – сказал он шепотом, – не знаю, зачем потребовалось отцу, чтоб ее убили.
– Затем, что она этого стоила, – отвечал Горша. – Но свежо стало; я хочу под крышу.
Пока все это происходило, Зденка приготовила старику напиток, состоявший из водки, вскипяченной с грушами, медом и изюмом, но старик с отвращением оттолкнул его от себя. То же самое отвращение обнаружил он и к бараньему боку с рисом, который поставил перед ним Георгий, и ушел сидеть в угол, бормоча какие-то непонятные слова.
Сосновые дрова пылали под очагом и освещали своим дрожащим блеском лицо старика, которое было так бледно и изнурено, что, не будь этого освещения, – могло бы показаться лицом мертвеца. Зденка подошла и села рядом с ним.
– Отец, – сказала она, – ты ничего не ешь и отдохнуть не хочешь; расскажи же нам что-нибудь о подвигах своих в горах.
Говоря это, девушка знала, что затрагивает самую чувствительную струну старика, так как он любил поговорить о битвах и стычках с турками. И точно, улыбка мелькнула на его бледных губах, но глаза остались безучастными, и он отвечал, гладя рукой прекрасные белокурые волосы дочери:
– Хорошо, Зденка, я расскажу тебе, что́ видел в горах, только не теперь, не сегодня: я устал. Одно скажу тебе, Алибека нет в живых, и погиб он от руки твоего отца. Если же кто в этом сомневается, – продолжал старик, окинув взором семью, – то вот доказательство!
И он, раздернув верх мешка, висевшего у него за спиной, вынул оттуда окровавленную голову, которой, впрочем, не уступало и его собственное лицо в мертвенной синеватости. Мы с ужасом от нее отвернулись, но Горша, отдав ее Петру, сказал:
– На, прикрепи ее над дверью нашего дома; пусть всякий прохожий знает, что Алибек убит и дороги очищены от злодеев, если не считать султанских янычар!
Петр повиновался с отвращением.
– Теперь мне все понятно, – сказал он. – Бедная собака рычала, потому что почуяла мертвое тело!
– Да, она почуяла мертвое тело, – мрачно подтвердил Георгий, который незаметно вышел между тем и вернулся теперь, держа что-то в руке, что он поставил в угол; мне показалось, что это был кол.
– Георгий, – сказала ему вполголоса жена, – неужели ты хочешь…
– Брат, – вмешалась сестра, – что́ у тебя на уме!.. Нет, нет, ты этого не сделаешь, не правда ли?..
– Оставьте меня, – отвечал Георгий, – сам я знаю, что́ делать, и ничего лишнего не сделаю.
Между тем уже наступила ночь, и семья отправилась спать в ту часть дома, которая отделялась от моей комнаты тонкой перегородкой. Признаюсь, все, что́ я видел в тот вечер, сильно подействовало на мое воображение. Я задул свой светильник. Месяц глядел прямо в низкое окно моей комнаты, близехонько от моей кровати, и кидал на пол и на стену голубоватые отсветы, почти так же, как вот здесь в настоящую минуту, mesdames. Мне хотелось спать, но я не мог. Я приписал это лунному свету и стал искать чего-нибудь, чем бы завесить окно, но ничего не нашел; а между тем за перегородкой послышались мне голоса. Я стал прислушиваться.

