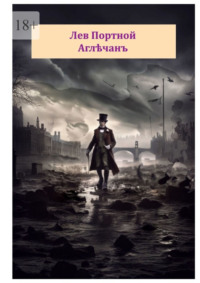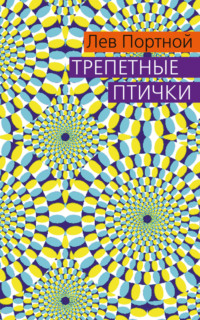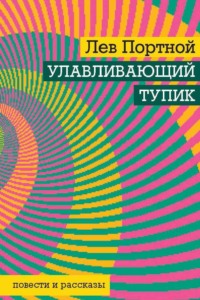Граф Ростопчин. История незаурядного генерал-губернатора Москвы
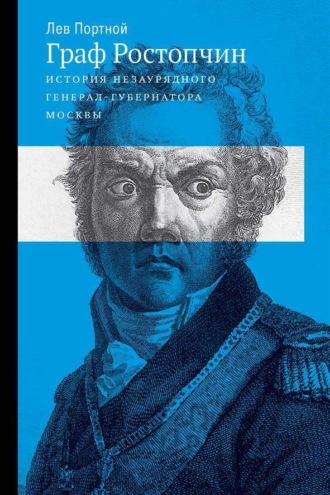
Полная версия
Граф Ростопчин. История незаурядного генерал-губернатора Москвы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу