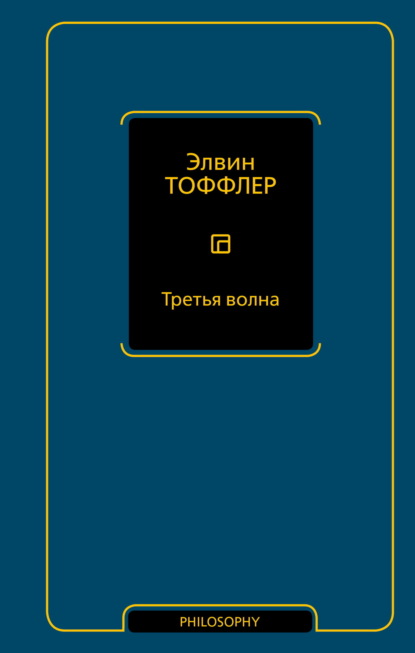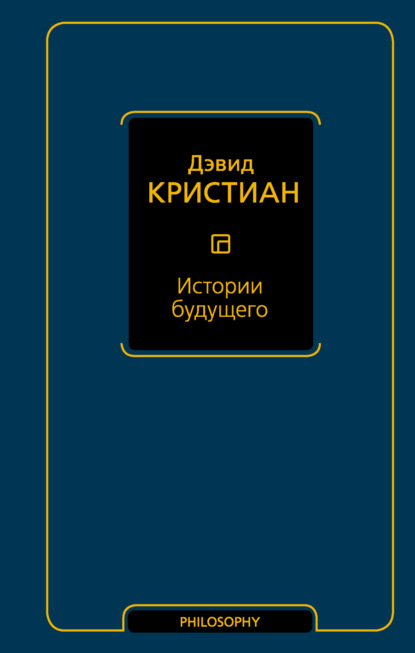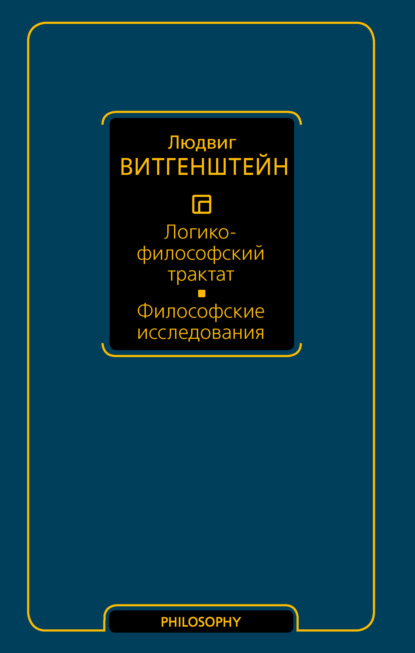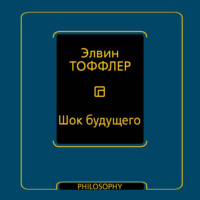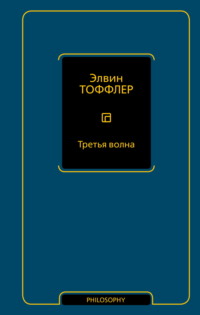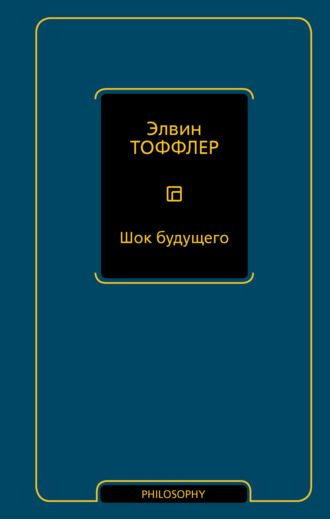
Полная версия
Шок будущего
Однако если для воплощения новой идеи и ее выхода на рынок требуется меньше времени, то точно так же нужно меньше времени для того, чтобы новый товар проник в общество. Таким образом, укорачивается интервал между второй и третьей стадиями цикла – между приложением и распространением, а скорость последнего растет. Это подтверждается историей внедрения нескольких полезных приспособлений для домашнего хозяйства. Роберт Янг из Стэнфордского научного института изучил промежутки времени между первым появлением на рынке нового электрического прибора и моментом, когда промышленное его производство достигало пика.
Янг обнаружил, что для группы приборов, которые появились в продаже в Соединенных Штатах до двадцатых годов, включая пылесос, электрический вентилятор и электрический холодильник, время между первым появлением приспособления до достижения пика его производства составляло в среднем тридцать четыре года. Однако для группы приборов, появившихся в период между 1939 и 1959 годами, включая электрическую сковороду, телевизор и комбайн для мытья и сушки посуды, этот период составил всего восемь лет. Лаг сократился более чем на 76 процентов. «Эта послевоенная группа,– заявил Янг,– живо продемонстрировала быстрое ускорение современного цикла внедрения».
Ускорение темпа в цикле изобретения, эксплуатации и распространения, в свою очередь, ускоряет цикл. Новые машины и технические приспособления изменяют существующие машины и приспособления, позволяя соединять их в новые комбинации. Число комбинаций растет экспоненциально, в то время как количество новых машин и приспособлений увеличивается в арифметической прогрессии. Действительно, каждую новую комбинацию можно рассматривать как супермашину.
Например, компьютер сделал возможными успехи в комплексном исследовании космического пространства. В связи с изобретением чувствительных датчиков, коммуникационного оборудования и источников энергии компьютер стал частью конфигурации технических средств, которые в совокупности образуют единую супермашину для проникновения в космическое пространство и его исследования. Но для того, чтобы машины и технические средства можно было сочетать новыми способами, они должны быть изменены, модифицированы, адаптированы, усовершенствованы теми или иными способами. Таким образом, сами усилия по интеграции машин в супермашины заставляют нас изобретать дальнейшие технологические инновации.
Более того, важно понять, что технологическая инновация предусматривает не просто комбинацию и рекомбинацию машин и технических средств. Важные новые машины делают нечто большее, чем стимулируют или подстегивают изменения в других машинах, – они предлагают иные решения социальных, философских и даже личных проблем. Они меняют всю интеллектуальную среду человеческой жизни – способы, какими человек мыслит и смотрит на мир.
Мы все учимся на окружающей нас среде, постоянно ее сканируем, хотя, вероятно, и подсознательно, в поисках модели для подражания. Этими моделями являются не только другие, окружающие нас люди. Это, во все более возрастающей степени, машины. Например, механические часы были изобретены до того, как Ньютон уподобил свое представление о мироздании часовому механизму и это философское замечание оказало огромное воздействие на интеллектуальное развитие человека. Следствием этого представления о космосе как о великих часах стали идеи о причинах и следствиях, а также о важности внешних, противопоставленных внутренним, стимулов, и эти идеи до сих пор формируют поведение каждого из нас. Часы также воздействовали на наше понимание времени, позволившее принять идею о членении суток на двадцать четыре часа, равные промежутки, разделенные на шестьдесят минут каждый; эти представления буквально стали нашей неотъемлемой частью.
Совсем недавно компьютер породил бурю свежих идей о человеке как о действующей части более крупной системы, идей о его физиологии, способах обучения, механизмах памяти и принятия решений. Практически каждая интеллектуальная дисциплина, от политологии до семейной психологии, была затронута волной оригинальных гипотез, появившихся благодаря изобретению и распространению компьютера, и при этом его влияние на нас пока осознано не полностью. Таким образом, инновационный цикл ускоряется, питая сам себя.
Если, однако, технологию рассматривать как великую машину, как могучий ускоритель, то знание надо оценивать как топливо. То есть мы приходим к главному вопросу процесса ускорения в обществе, поскольку двигатель каждый день начинает снабжаться все более богатым топливом.
Знание как топливо
Скорость, с какой человек накапливает полезное знание о себе и вселенной, непрерывно увеличивается в течение последних десяти тысяч лет. Она сильно возросла после изобретения письма, но даже и после этого оставалась удручающе медленной. Следующий рывок в накоплении знаний – это событие, происшедшее только после изобретения Гутенбергом и другими подвижного шрифта в пятнадцатом веке. До 1500 года, согласно самым оптимистичным оценкам, в Европе появлялась примерно тысяча новых названий книг. Это означает приблизительно, что потребовалось бы целое столетие для того, чтобы собрать библиотеку из 100 тысяч томов. К 1950 году, спустя четыре с половиной века, скорость эта возросла так стремительно, что в Европе ежегодно печаталось 120 тысяч названий новых книг. То, что прежде занимало сто лет, стало занимать только десять месяцев. К 1960 году, всего через десять лет, скорость появления новых названий совершила новый скачок, так что теперь столетнюю работу стало возможно выполнить за семь с половиной месяцев. К середине шестидесятых выпуск книг в мировом масштабе, включая Европу, составил невероятное число – тысяча названий в один день.
Едва ли можно спорить, что каждая книга – чистое приобретение в усовершенствовании и умножении знания. Тем не менее мы обнаруживаем, что кривая ускорения книжных публикаций не вполне параллельна кривой скорости приобретения новых знаний. Например, до Гутенберга были известны лишь одиннадцать химических элементов. Двенадцатый элемент, сурьма, был открыт приблизительно в то время, когда Гутенберг работал над своим изобретением. Прошло двести лет с тех пор, как был открыт одиннадцатый элемент – мышьяк. Если бы такая скорость открытия элементов сохранялась и далее, то со времен Гутенберга мы добавили бы к периодической таблице еще два-три элемента. Однако за 450 лет, прошедших после его времени, было открыто около семидесяти новых элементов. С 1900 года были выделены оставшиеся элементы с быстротой не один за два столетия, а со скоростью один элемент в три года.
Есть основания полагать, что скорость умножения знания продолжает резко возрастать. Например, в наши дни число научных журналов и статей удваивается так же, как объем промышленного производства в индустриально развитых странах, приблизительно каждые пятнадцать лет, и, по мнению биохимика Филиппа Сикевитца, «то, что мы узнали за последние три десятилетия о природе живых существ, заставляет казаться крошечным объем знаний, добытых за любой сравнимый период времени в прошлой истории человечества». Сегодня одно только правительство Соединенных Штатов производит ежегодно 100 тысяч докладов плюс 450 тысяч статей, книг и писем. В мировом масштабе выход научной и технической литературы достигает 60 миллионов страниц в год.
Производство вычислительных машин пережило взрывоподобный рост около 1950 года. Он характеризуется невиданным повышением возможностей анализа чрезвычайно разнообразных данных в невероятных количествах и с головокружительной быстротой. Компьютеры стали главной силой, обеспечившей недавнее ускорение в приобретении знаний. В сочетании с другими, все более мощными аналитическими инструментами наблюдения окружающей нас невидимой Вселенной компьютер увеличил скорость приобретения знаний до умопомрачительной величины.
Фрэнсис Бэкон говорил нам: «Знание – сила». Это утверждение теперь можно интерпретировать, пользуясь современными терминами. В нашем социальном окружении «знание – это изменения», а ускоряющееся приобретение их, топлива для великой машины технологии, означает и ускорение перемен.
Поток ситуаций
Открытие. Применение. Воздействие. Открытие. Мы видим в этом цепную реакцию изменений, длинную, резко возрастающую кривую ускорения социального развития человечества. Этот ускоряющий толчок теперь достиг такого уровня, когда его даже при самом богатом воображении уже нельзя считать «нормальным». Нормальные институции индустриального общества не могут охватить его ускоряющий толчок; его воздействие сотрясает наши общественные институты и учреждения. Ускорение является одной из наиболее важных и одновременно хуже всего понятых социальных сил.
Но это только половина истории. Дело в том, что ускорение изменений является также и психологически значимой силой. Хотя психология практически полностью игнорирует эту проблему, ускорение изменений в окружающем мире нарушает внутреннее равновесие, меняет способ, каким мы переживаем и воспринимаем жизнь. Ускорение вне нас транслируется в ускорение внутри нас.
В упрощенном виде это можно проиллюстрировать следующим образом: давайте представим нашу индивидуальную жизнь как большой канал, по которому протекает поток переживаний и опытов. Этот поток чувственных переживаний состоит – или воспринимается нами как состоящий – из бесчисленных «ситуаций». Ускорение изменений в окружающем нас обществе в сильнейшей степени изменяет поток ситуаций по этому каналу.
У нас отсутствует отчетливое и полное определение слова «ситуация», но мы утратим всякую возможность справиться с нашими опытами, если не научимся членить их на такие поддающиеся контролю единицы. Более того, поскольку границы между ситуациями могут быть размытыми, постольку каждая ситуация отличается определенной «полнотой» и цельностью. Каждая ситуация, кроме того, характеризуется поддающимися идентификации компонентами. Они включают «вещи» – физические наборы природных или рукотворных объектов. Каждая ситуация возникает в некоем «месте». (Не случайно латинский корень situ означает «место».) Каждая социальная ситуация по определению вовлекает участие совокупности действующих персонажей – людей. Они также включают в себя местоположение в организационной сети общества и контекст идей или информации. Любую ситуацию можно проанализировать в понятиях этих пяти компонентов.
Но она определяется также отдельным измерением, которое – поскольку оно пересекает все остальные – часто упускают из виду. Это измерение – длительность – отрезок времени, в течение которого ситуация происходит. Две ситуации, одинаковые во всех прочих отношениях, вовсе не являются таковыми, если одна длится дольше, чем другая. Время решительно вмешивается в эту смесь, меняя смысл и содержание ситуации. Если похоронный марш исполнять в быстром темпе, то он превратится в веселенькое позвякивание, и точно так же затянувшаяся ситуация имеет совершенно иной привкус, нежели ситуация, развивающаяся в темпе стаккато, внезапно возникая и столь же быстро заканчиваясь.
Именно в этом видим мы первый непростой пункт, где ускоряющий толчок в большом обществе наталкивается на обычный повседневный опыт современного индивида. Дело в том, что ускорение изменений, как мы покажем далее, укорачивает длительность многих ситуаций. Это не только драматически изменяет «привкус», но и ускоряет прохождение событий по каналу переживания опыта. В сравнении с жизнью в медленно меняющемся обществе теперь больше ситуаций протекают по каналу в любой данный отрезок времени – и это вызывает перемены в человеческой психике.
Поскольку мы склонны сосредотачиваться только на одной ситуации в каждый данный момент, постольку увеличение скорости, с какой протекает для нас ситуация, сильно усложняет всю структуру жизни, увеличивая число ролей, которые нам приходится играть, и число выборов, которые мы вынуждены делать. Это, в свою очередь, порождает удушающее чувство сложности современной жизни.
Ускорение протекания ситуаций требует напряженной работы механизмов сосредоточения, за их счет мы переносим внимание с одной ситуации на другую. Происходит больше смещений внимания с предмета на предмет, остается меньше времени на анализ одной проблемы или ситуации за один раз. Именно это лежит в основе смутного, упомянутого ранее ощущения, будто «вещи стали двигаться быстрее». И это правда. Они с ускорением движутся вокруг нас и через нас.
Есть, однако, еще один более действенный и значимый способ, которым ускорение изменений в обществе увеличивает сложность адаптации к жизни. Это усугубление трудности проистекает из фантастического по масштабу вторжения новизны в наше бытие. Каждая ситуация сама по себе уникальна. Но ситуации часто напоминают друг друга. Это то, что делает возможным обучение на опыте. Если бы каждая ситуация была абсолютно новой и ничем не напоминала пережитые ранее, мы просто лишились бы способности справляться с ними.
Однако ускорение изменений радикально меняет баланс между новыми и знакомыми ситуациями. Следовательно, повышение скорости изменений понуждает нас реагировать не только на более быстрый поток ситуаций, но заставляет справляться со все большим числом ситуаций, в которых ранее приобретенный личный опыт оказывается бесполезным и ненужным. Психологическое следствие этого простого факта, который мы проанализируем ниже в этой книге, мало чем отличается от действия взрывчатого вещества.
«Когда вещи начинают меняться вовне, у вас начинаются параллельные изменения, происходящие внутри», – утверждает Кристофер Райт из Института изучения гуманитарных наук. Природа этих внутренних изменений, однако, так глубока, что по мере того, как ускоряющий толчок происходит со все большей быстротой, он одновременно испытывает на прочность нашу способность жить согласно параметрам, которые до сих пор определяли человека и общество. Говоря словами психоаналитика Эрика Эриксона: «В настоящее время в нашем обществе термином „английские кавычки“ в точности обозначают то, что скорость изменений будет продолжать ускоряться до пределов, недостижимых для индивидуальной и институциональной адаптивности».
Чтобы выжить, предотвратить развитие того, что мы назвали шоком будущего, индивид должен стать бесконечно более способным к адаптации, чем раньше. Ему следует изыскать совершенно иные способы укореняться на своем месте, ведь все старые основы – религия, нация, община, семья или профессия – ныне сотрясаются под напором ураганного натиска ускоряющего толчка. Прежде чем человек сможет это сделать, он должен детально понять, как последствия ускорения проникают в его личную жизнь, прокрадываются в поведение и изменяют качество бытия. Другими словами, ему нужно осознать природу текучести и быстротечности.
Глава 3
Темп жизни
До недавнего времени его портрет можно было увидеть везде: по телевизору, на плакатах в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, на листовках, спичечных этикетках и журнальных обложках. Этот типаж был вдохновенным порождением Мэдисон-авеню – вымышленный персонаж, с кем подсознательно идентифицировали себя миллионы людей. Молодой, аккуратно подстриженный, он держал в руке кейс-атташе, деловито смотрел на часы и выглядел как заурядный бизнесмен, спешивший на деловую встречу. Однако на спине его был виден огромный выступ. Дело в том, что между лопаток из спины торчал большой, имеющий форму бабочки ключ – такими ключами обычно заводят механические игрушки. Текст под картинкой призывал ее героя «отпустить пружину» – замедлиться и притормозить. Плакат этот украшал фасады отелей «Шератон». Этот заводной шагающий человек был и до сих пор остается наглядным символом людей будущего, миллионы которых чувствуют себя «заведенными» и спешат так, будто у них действительно из спины торчит ключ.
Среднестатистический индивид мало знает и еще меньше интересуется циклами технологических инноваций или отношением между приобретением знаний и темпом изменений. Но. с другой стороны, он весьма остро ощущает темп собственной жизни – каким бы он ни был.
Обычные люди живо реагируют на ритм и темп жизни. Удивительно, но эта реакция практически не привлекает внимания ни психологов, ни социологов. Это зияющий провал и неадекватность наук о поведении, поскольку темп жизни оказывает мощное влияние на поведение, вызывая у разных людей сильные и часто противоречивые реакции.
Не будет преувеличением сказать, что темп жизни делит человечество разграничительной линией, которая порождает непонимание между родителями и детьми, между Мэдисон-авеню и Мэйн-стрит, между мужчинами и женщинами, между американцами и европейцами, между Востоком и Западом.
Люди будущего
Обитатели планеты Земля делятся не только по расам, нациям, религиям и идеологиям, но также по положению во времени. Исследуя современное население Земли, мы обнаруживаем крошечную группу людей, которые до сих пор живут охотой и собирательством, как их предки миллионы лет назад. Другие, и они составляют подавляющее большинство человечества, зависят не от охоты на медведей и сбора ягод, а от сельского хозяйства. Они живут во многих отношениях как их предки сотни лет назад. Вместе эти две группы составляют, вероятно, 70 процентов всех живущих ныне человеческих существ. Это люди прошлого.
Наоборот, немногим больше 2,5 процента населения Земли волей судьбы оказались в индустриальных обществах. Они ведут современный образ жизни. Они являются продуктами первой половины XX века, сформированные механизацией и массовым образованием, но воспитанные в запоздалых воспоминаниях о сельском прошлом их страны. По сути, это люди настоящего, люди современности.
Оставшиеся два-три процента населения планеты, однако, не являются больше людьми ни прошлого, ни настоящего. Дело в том, что в главных центрах технологических и культурных изменений – в Санта-Монике, штат Калифорния, и Кембридже, штат Массачусетс, в Нью-Йорке, Лондоне и Токио – находятся миллионы людей, о которых можно сказать, что они уже живут жизнью будущего. Задающие тренды – часто даже не осознавая этого,– эти люди живут сегодня так, как многие миллионы людей будут жить завтра. Хотя сейчас их всего несколько процентов от населения мира, они уже формируют среди нас международную нацию будущего. Они – полномочные провозвестники будущего человека, первые граждане всемирного, рождающегося в муках супериндустриального общества.
Чем эти люди отличаются от остальных? Определенно, они богаче, лучше образованны и более мобильны, чем большинство представителей рода человеческого. Да и живут они дольше. Но что особенно выделяет людей будущего, так это факт, что они уже захвачены новым, ускоренным темпом и ритмом жизни. Они «живут быстрее», чем окружающие.
Некоторые люди испытывают сильную тягу к этому чрезвычайно ускоренному ритму жизни – они выходят далеко за пределы обычного образа жизни и испытывают тревогу, напряжение и дискомфорт, когда ритм замедляется. Они отчаянно стремятся туда, «где развертываются активные действия». (На самом деле многим из них безразлично, в чем заключаются эти действия, – лишь бы все происходило так же стремительно, как раскручивается сжатая пружина.) Джеймс Уилсон установил, например, что тяга к быстрому ритму жизни является одной из скрытых движущих сил явления, известного под названием «утечки мозгов» – массовой миграции европейских ученых в Соединенные Штаты и Канаду. Изучив поведение пятисот семнадцати эмигрировавших английских ученых и инженеров, Уилсон пришел к выводу, что привлекали этих людей не только высокие зарплаты и лучшие условия труда, но и ускоренный ритм жизни. Эмигранты, пишет Уилсон, «не пугаются того, что они называют „ускоренным ритмом Северной Америки“. При прочих равных они, как представляется, предпочитают такой ритм жизни всем другим». Так же и один белый ветеран движения за гражданские права из Миссисипи сообщает: «Люди, привыкшие к ускоренной городской жизни… не могут долго выносить сельскую жизнь Юга. Вот почему они часто снимаются с места и уезжают куда-то без видимой причины. Переезд – это наркотик движения». Эта тяга к перемене мест, вероятно бесцельная, играет роль компенсационного механизма. Понимание мощной притягательности определенного ритма жизни для людей позволяет объяснить это «бесцельное поведение».
Но если одни люди просто наслаждаются новым стремительным ритмом, другие испытывают к нему отвращение и готовы на все, чтобы «избавиться от этой карусели», как они это называют. Полное вовлечение в нарождающееся супериндустриальное общество означает вхождение в мир, движущийся с невиданной прежде быстротой, но такие люди не хотят этого, предпочитая лениво перемещаться со своей скоростью. Не случайно несколько лет назад хитом сезона в Лондоне и Нью-Йорке стал мюзикл «Остановите Землю – я сойду». Квиетизм и поиск иных способов отказа и уклонения от общественной жизни, характерные для поведения людей (но не всех хиппи), наверное, менее мотивирован отвращением к ценностям технологической цивилизации, нежели подсознательной попыткой убежать от ритма жизни, который многие считают невыносимым. Не случайно хиппи называют ситуацию в обществе «крысиными бегами», а это явный намек на ускорение.
Пожилые и старые люди еще более негативно реагируют на дальнейшее ускорение изменений. Под наблюдения, согласно которым возраст часто коррелирует с консерватизмом, можно подвести солидный математический базис: в старости время течет быстрее.
Когда пятидесятилетний отец говорит своему пятнадцатилетнему сыну, что ему придется подождать два года до покупки собственной машины, то этот интервал в 730 дней составляет всего 4 процента от прожитых лет отца. Но в жизни юноши этот отрезок времени составляет целых 13 процентов. Поэтому нет ничего удивительного, что сыну эту промежуток времени кажется в три-четыре раза длиннее, чем отцу. Четыре часа воспринимаются четырехлетним ребенком так же, как воспринимается его двадцатичетырехлетней матерью отрезок времени в двенадцать часов. Сказать ребенку подождать конфету два часа – это то же самое, что попросить мать подождать чашку кофе четырнадцать часов.
Вероятно, что у такой разницы в субъективном восприятии времени может быть и чисто биологическое основание. «По мере старения, – пишет Джон Коэн, психолог из Манчестерского университета, – календарные годы постепенно съеживаются. Ретроспективно каждый год кажется более коротким, чем предыдущий, наверное, в результате замедления метаболических процессов». По сравнению с замедлением их собственных биологических ритмов этим людям будет казаться, будто движение мира ускорилось, даже если темп жизни мира не изменился.
Какими бы ни были причины, любое ускорение изменений, которое по существу является увеличением числа событий в единицу времени в канале чувственного опыта, пожилым человеком воспринимается весьма серьезно. По мере того как скорость изменений в обществе возрастает, все больше пожилых и старых людей начинают остро ощущать эту разницу. Они также становятся изгоями, удаляются в свой частный мир, обрывают множество контактов с быстро движущимся внешним миром и в конце концов до самой смерти ведут почти растительную жизнь. Мы ни за что не сможем решить психологические проблемы старых людей до тех пор, пока не найдем средства – за счет перемены биохимических процессов или переобучения – изменить их восприятие времени или создать для них анклавы, структурированные так, чтобы темп жизни в них был контролируемым или даже, возможно, использовать там календари со скользящей шкалой, приспособленные к субъективному восприятию времени пожилыми пациентами.
Необъяснимый по-другому конфликт – между поколениями, родителями и детьми, мужьями и женами – можно раскрыть, найдя разницу в реакциях на ускорение ритма жизни. То же самое верно в отношении столкновения культур.
Для каждой культуры характерен собственный ритм. Ф. М. Эсфандиари, иранский романист и эссеист, рассказывает о конфликте двух ритмов жизни, возникшем, когда немецкие инженеры перед Второй мировой войной помогали Ирану в строительстве железной дороги. Иранцы, как и вообще жители Ближнего Востока, отличаются более спокойным отношением к времени, чем американцы и западные европейцы. Поскольку иранские рабочие регулярно опаздывали на работу минут на десять, немцы, бывшие образцом пунктуальности и вечно куда-то спешившие, часто увольняли их. Иранским инженерам потребовалось много усилий для того, чтобы убедить немцев в том, что, по ближневосточным стандартам, рабочие-иранцы проявляли просто чудеса пунктуальности и если их будут увольнять и впредь, то скоро на строительстве будет некому трудиться, кроме детей и женщин.
Это безразличие к времени может вывести из себя тех, кто настроен на быстрый ритм жизни и постоянно глядит на часы. Так, итальянцы из Турина и Милана, промышленных городов Северной Италии, свысока смотрят на относительно неторопливых сицилийцев, жизнь которых протекает по неспешным стандартам земледельческих общин. Шведы из Стокгольма и Гётеборга точно так же относятся к лапландцам. Американцы насмешливо отзываются о мексиканцах, для которых «маньяна» – завтра – это достаточно скоро. В самих Соединенных Штатах северяне называют южан медлительными увальнями, а негры из среднего класса клянут негров из рабочего класса (именно южан) за то, что они трудятся согласно «времени цветного человека». Наоборот, по сравнению почти со всеми другими, белые американцы и канадцы считаются пронырливыми, проворными и удачливыми торопыгами.