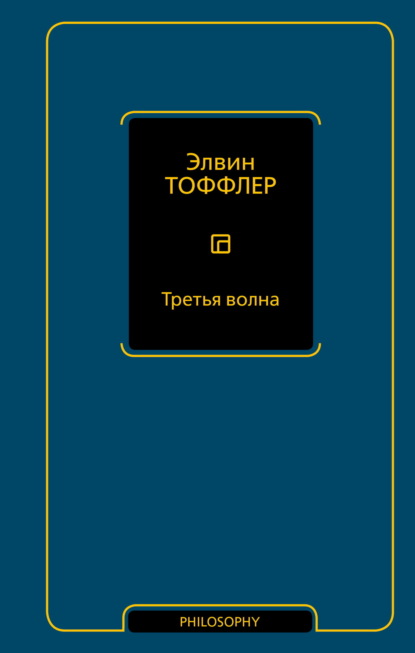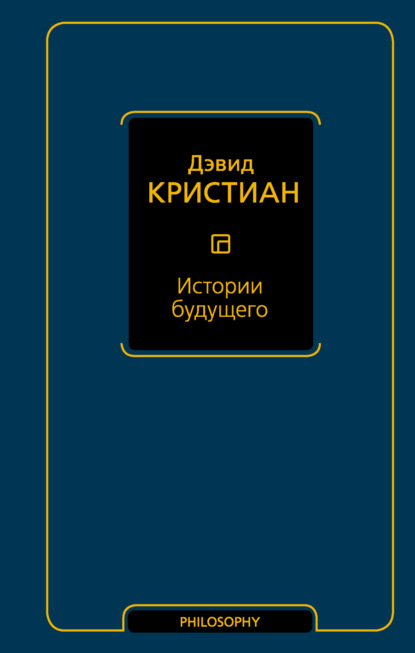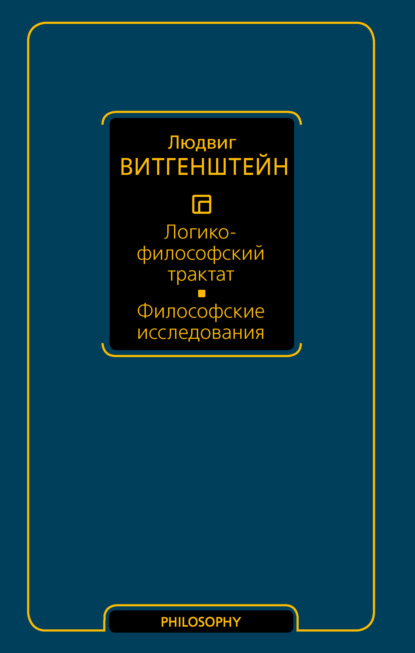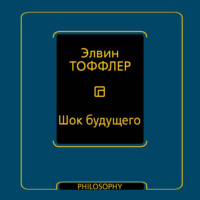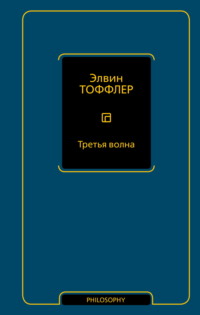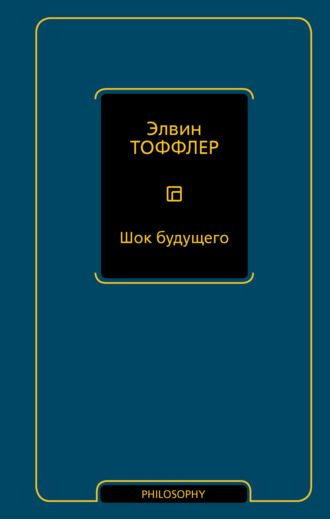
Полная версия
Шок будущего
Это поколение отличается от всех других еще и удивительным масштабом и объемом изменений. Конечно, в прошлом жили и другие поколения, на жизнь которых пришлись эпохальные сдвиги. Войны, эпидемии, землетрясения и голод потрясали и намного более ранние социальные порядки. Но те потрясения и сдвиги были ограничены одним сообществом или захватывали небольшую группу расположенных по соседству обществ. Требовались поколения или даже века на то, чтобы влияние этих перемен распространилось за свои первоначальные границы.
При жизни нашего поколения границы буквально взорвались и лопнули. Сегодня сеть социальных связей сплетена так туго, что последствия происходящих событий мгновенно распространяются по миру. Война во Вьетнаме меняет основы политических отношений в Пекине, Москве и Вашингтоне, вызывает протесты в Стокгольме, влияет на финансовые операции в Цюрихе, запускает тайную дипломатическую активность в Алжире.
На самом деле быстро распространяются не только современные события – можно сказать, что сегодня мы по-новому переживаем воздействие событий далекого прошлого. Прошлое снова воздействует на нас. Нас захватывает феномен, который можно было бы назвать «смещением во времени».
Событие, которое затронуло горстку народов в то время, когда оно происходило, сегодня может иметь масштабные последствия. Например, по современным меркам Пелопонесская война может считаться мелкой вооруженной стычкой. В то время как Афины, Спарта и несколько близлежащих городов-государств сражались, остальное население земного шара либо вообще ничего не знало об этой войне, либо относилось к ней абсолютно равнодушно. Индейцев, живших в Мексике в то время, та война вообще не затронула. На древних японцев она тоже не влияла.
Тем не менее Пелопонесская война решительно и глубоко изменила дальнейший ход греческой истории. За счет перемещения людей, географического перераспределения генов, ценностей и идей эта война повлияла на дальнейшие события в Риме и во всей Европе. Сегодняшние европейцы стали в определенной степени другими людьми именно потому, что произошел тот древний конфликт.
В свою очередь, в нашем тесно переплетенном мире эти европейцы влияют на мексиканцев так же, как и на японцев. Какой бы след ни оставила Пелопонесская война на генетическом портрете народов, идеи современных европейцев переносятся сейчас во все уголки мира. Таким образом, сегодняшние мексиканцы и японцы ощущают отдаленное воздействие той войны, несмотря на то что их жившие в ее время предки этого не чувствовали. Таким вот образом события прошлого, казалось бы надежно отделенные от нас поколениями и веками, снова восстают, догоняют и меняют нас сегодня.
Когда мы думаем, например, не о Пелопонесской войне, а о строительстве Великой Китайской стены, об эпидемии чумы, о битве банту с хамитами – обо всех событиях прошлого, – всегда нарастает важность накопительного воздействия, оказываемого принципом временного смещения. То, что происходило в прошлом лишь с некоторыми людьми, сегодня влияет практически на всех. Вся наша история всегда пребывает с нами, и парадоксальным образом именно это нарастание масштаба акцентирует трудность разрыва с прошлым. Происходит фундаментальное изменение масштаба перемен. Они захватывают пространство и пронзают время, добиваясь в восьмисотом поколении того, чего им не удавалось достичь прежде.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Пока не существует единого общепринятого, удовлетворительного термина для обозначения новой стадии общественного развития, к какому мы, как представляется, несемся сломя голову. Социолог Дэниел Белл предложил термин «постиндустриальное» общество. В нем экономика по большей части зиждется на услугах, в нем доминируют классы высококвалифицированных специалистов и технических профессионалов; главным является теоретическое знание и интеллектуальная технология – системный анализ, математическое моделирование и тому подобное, которые сильно развиты, а технология, во всяком случае потенциально, способна к самоподдерживающемуся росту. Термин подвергся критике за предположение о том, что грядущее общество не будет основано на технологии, – упоминаний об этом следствии сам Белл старательно избегает.
Излюбленный термин Кеннета Боулдинга «постцивилизация» употребляется как противопоставление будущего общества «цивилизации» – эре стабильных обществ, сельского хозяйства и традиционных войн. Трудность с этим термином заключается в том, что он якобы намекает на то, что после цивилизационной стадии развития общества наступит эпоха варварства. Боулдинг отрицает эти обвинения с тем же жаром, с каким отстаивает свой термин Белл. Выбор Збигнева Бжезинского – «технотронное общество». Этим термином он обозначает общество, в первую очередь основанное на передовых средствах коммуникации и электронике. Против этого можно возразить, что выпячивание роли технологии, причем специфической отрасли технологии, не оставляет места для социальных аспектов общества.
Затем, конечно, существуют «глобальная деревня» и «электрический век» Маршаллa Маклюэнa – еще одна попытка описать будущее в терминах пары весьма узких измерений: коммуникации и коллективизма. Возможно применение и других терминов: трансиндустриальное, постэкономическое и т.д. Я считаю, что с учетом всего сказанного и сделанного наилучшим термином является «супериндустриальное общество». У него тоже, разумеется, есть недостатки. Им я намерен обозначить сложное, быстро развивающееся общество, зависящее от передовой технологии и основанное на постматериалистической системе ценностей.–Здесь и далее примеч. автора.