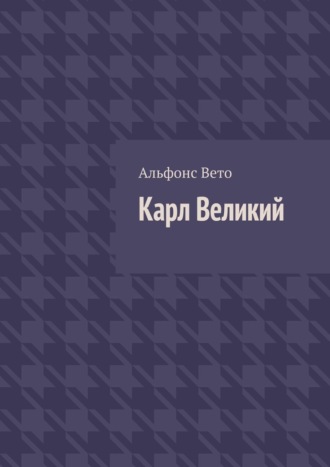
Полная версия
Карл Великий
Некоторые историки приписывают Эброину глубокие политические комбинации и целую теорию социального нивелирования при бесконтрольной королевской власти. Это слишком самонадеянно компенсирует неадекватность и путаницу современных описаний. Логика событий и характер человека, кажется, гораздо лучше отражены в этой оценке историка каролингских институтов: Я не знаю, хватило ли у мэра Эброина ума понять свою собственную историю, и не следует ли свести всю его политическую систему к инстинкту неупорядоченной страсти, которая находит цель и удовлетворение в самой себе; но историческое значение этого не может быть проигнорировано. Он взялся освободить королевскую власть, хранителем которой он был, от постоянного гнета объединенных против нее аристократических интересов, не считая нужным сохранять для себя, в ущерб принцу, которому он служил, все, что он мог вырвать у их общих врагов41.
Этот человек предстает перед нами во всей своей красе: амбициозный, полный дерзости и ресурсов, без принципов, без угрызений совести и каких-либо моральных ограничений, снедаемый потребностью доминировать и бояться, приносящий в жертву своей гордыне даже те интересы, которые он поставил перед собой задачу защищать!
Он шел прямо к своей цели, презирая как союзников, так и противников. Вознесенный к власти благодаря заслугам королевы-матери, именно против нее он впервые применил свой гений интриги и заставил ее покинуть дворец, где до тех пор она властвовала как хозяйка. Единственный человек в Нейстрии, попытавшийся сравниться с ним по влиянию, епископ Парижский Сигебранд, вскоре поплатился жизнью за эту безрассудную попытку. Дав себе, так сказать, свободу действий, он запутал весь народ в обширные сети тиранической администрации. То, что он позаботился поставить во главе пап, в нарушение декрета 614 года, графов по своему выбору, в которых слабость их характера или смирение их состояния обеспечивали ему послушное орудие, достаточно показывает мотив его враждебности к прерогативам аристократии.
После десяти лет борьбы, думая, что подавил всякое сопротивление, он наконец наложил руку на самую заветную привилегию леудов. После смерти Хлотаря III в 670 году он запретил им собираться для избрания нового Меровинга, а сам провозгласил своим авторитетом третьего сына Хлотаря II по имени Теодерик. Но этот государственный переворот оказался для него не более успешным, чем для Брунехильды. Внезапно старый дух германской независимости вновь пробудился. Забыв на мгновение о своих прошлых раздорах, все свободные франки Нейстрии и Бургундии массово поднялись и побежали предлагать корону королю Меца. А кто, говорится в хронике, отказывался идти или пытался бежать, тот видел, что его имущество сожжено, его жизни даже угрожает опасность, и должен был волей-неволей присоединиться к остальным42. Эброин и Теодерик, оставшись без сторонников, удалились в монастырь, а Чилдерик, ставший без боя хозяином всего наследства Хлодвига, поспешил, следуя привычке своих предшественников, покинуть столицу Аустразии и поселиться на берегу Сены.
Эта внезапная революция, схожая по своим причинам с революцией 613 года, имела те же последствия. Центральная власть была признана побежденной и разоружена в пользу коалиции леудов. Они немедленно обошли короля Чилдерика и заставили его издать эдикты, в которых он обязывался сохранять в каждом из трех королевств, переданных под его скипетр, законы и обычаи, действовавшие там, как их поддерживали прежние судьи; не назначать ни в одном из графств администраторов из-за пределов региона; и, наконец, не позволять никому, следуя примеру Эброина, осуществлять тираническую власть и бросать вызов его соправителям43.
Таким образом, парижский договор был обновлен: провозглашено возвращение к первоначальной организации франкского общества, то есть к федерации земельных владельцев, и Хильдерик, как и его предок Хлотарь II, стал не более чем хранителем и исполнителем этого договора.
Как и в 614 году, влияние епископата очевидно в ведении всего этого дела, но на этот раз оно проявляется с более решительной инициативой. Вместо роли советника и умеряющего фактора, которую с такой мудростью исполнял святой Арнульф, на этот раз главе церковной аристократии была поручена активная и воинственная политическая функция. Знаменитый епископ Отена, Леодегарий (святой Леже), самый яростный противник Эброина, занял место своего соперника. Король Хильдерик, как говорит биограф, возвысил святого понтифика Леодегария над всем своим домом и передал ему все полномочия майордома. Прелат, взяв в руки бразды правления, вернул к древнему порядку все, что противоречило принципам древних королей и великих леудов, чье поведение заслужило всеобщее одобрение.
Таким образом, Леодегарий получил реальную власть; но Вульфоальд сохранил титул майордома, и этот титул, кажется, некоторое время представлял лишь надзор за дворцовыми службами. Уже тогда все ощущали необходимость разделить должность, ставшую угрозой как для аристократии, так и для королевской власти. Поэтому к договору 614 года была добавлена новая статья – отмена пожизненной майордомы, и было решено, что каждый из глав аристократии по очереди будет занимать эту высшую должность.
Но невозможная попытка разделить и уравновесить государственную власть между династией и политической ассоциацией крупных землевладельцев должна была продлиться еще меньше во второй раз, чем в первый. У обеих сторон были непримиримые тенденции и интересы. Хильдерик, в частности, унаследовавший чувственные аппетиты и деспотические инстинкты своей расы, был неспособен долго подчиняться требованиям такой деликатной ситуации. Он быстро нарушил обязательства, которые взял на себя, чтобы получить трон. Через три года, устав от слишком строгого надзора Леодегария, он поссорился с ним и заточил его в монастырь Люксёй, вместе с Эброином. Эта опала не была вызвана простой личной антипатией; она стала сигналом полного переворота в правительстве, и аристократия дорого заплатила за свой мимолетный триумф.
Следуя по стопам самого Эброина, король с удовольствием унижал и угнетал леудов, которые вели с ним переговоры как равные. Но один из них, Бодолен, которому он нанес наказание, предназначенное для рабов, отомстил за свое оскорбление и поражение своей партии, убив Хильдерика и его жену во время охоты (сентябрь 673 года). Майордом Вульфоальд бежал в Австразию. Никакой власти не осталось: анархия достигла предела. Все авантюрные лидеры, которых судьба предавала в быстрой череде последних революций, внезапно появились снова, как, по словам хрониста, змеи, наполненные ядом, выходят из своих нор с приходом весны. Разгул их взаимной ненависти вверг страну в такой хаос, что люди ожидали скорого пришествия Антихриста44. Король Теодерик, Эброин, Леодегарий, внезапно освобожденные из монастырского заточения, вернулись на арену.
Эброин быстро вернул себе положение хозяина ситуации. Вновь заняв должность майордома, несмотря на голосование национального маллума, который передал ее Леудесу, он избавился от своего неутомимого соперника, епископа Отена, совершив преступление, свел королевскую власть Теодерика к насмешливому титулу и с тех пор без помех, без угрызений совести, с жестокой настойчивостью проводил свои политические принципы в королевствах Нейстрии и Бургундии.
Австразия избежала его влияния во время этих внутренних конфликтов. Вульфоальд, который, кажется, во всех обстоятельствах представлял идеи и интересы класса второстепенных леудов, вернул из изгнания и восстановил на троне Меца Меровинга Дагоберта II, сосланного восемнадцать лет назад Гримоальдом в ирландский монастырь. Такое восстановление не сулило ничего хорошего членам семьи Арнульфингов. Новый монарх не научился прощать обиды в невзгодах, и высшая аристократия, которая когда-то предала его дело, нашла в нем решительного противника. Кроме того, привычки монастырской дисциплины внушили ему римское понятие о правительстве. Программа, которую он пытался реализовать, была ничем иным, как программой Брунгильды. Как и она, и даже быстрее, он потерял трон и жизнь. Уже на четвертый год своего правления партия знати массово восстала, свергла его и устроила над ним суд. Его обвиняли в разорении городов, в пренебрежении советами сеньоров (seniorum), в наложении на народ унизительных налогов, не щадя даже церквей Божьих и его понтификов45. Этого было более чем достаточно, чтобы перед таким судом вынести смертный приговор. Хроника говорит, что герцоги, с согласия епископов, вонзили ему меч в пах до рукояти46.
У каждого народа, на каком бы уровне развития он ни находился, более или менее законное убийство короля его подданными неизбежно знаменует конец его династии. С Дагобертом II потомство Хлодвига навсегда исчезло из Австразии. Крупные землевладельцы заменили монархию федеративным государством, в котором каждый из них должен был сохранять полную политическую независимость, но где, фактически, с самого начала преобладание принадлежало Пипину и его кузену Мартину47, другому внуку святого Арнульфа. По этому признаку легко понять, что заговор против власти Дагоберта, а возможно, и исполнение приговора, были делом рук этих двух молодых людей. Наделенные вместе титулом герцогов франков, они, по крайней мере, стремились оправдать свое возвышение не только амбициозными интригами или даже славными семейными воспоминаниями. Они использовали свою власть и таланты для защиты страны, долгое время находившейся в забвении; они доблестно охраняли границы Германии, вновь ставшей агрессивной благодаря внутренним раздорам франков, и в серии умелых походов подчинили себе швабов, баваров и саксов.
Однако в то время как коалиция двух аристократий – светской и церковной – одержала верх в Австразии над центральной властью, противоположная сторона победила в Нейстрии. Эброин, уничтожив все привилегии леудов и покарав изгнанием и пытками последних защитников старых обычаев, только что увенчал свою победу, приказав убить епископа Леодегария, которого он держал в плену уже четыре года. Достигнув таким образом, через столь же жестокие кризисы, крайних последствий принципов, за которые они так часто сражались, два соседних государства не могли не столкнуться снова в решающей борьбе. Убеждения изгнанников из Нейстрии и Бургундии, жертв тирании Эброина, нашедших убежище в большом количестве у них, побудили молодых австразийских герцогов взять на себя инициативу войны. Они смело двинулись к Сене во главе сильной армии, уверенные, что Эброин не получит серьезной поддержки от франкских воинов ни одной провинции. События обманули их ожидания. На этот раз леуды Теодорика подчинились скорее национальной неприязни, чем своим кастовым интересам: они бросились вслед за своим грозным майордомом против войск Востока, которые были полностью разгромлены48. Пипин и Мартин были увлечены в бегство своими солдатами. Последний укрылся за неприступными стенами Лана49.
Эброин заманил его на переговоры, поклявшись на святых реликвиях уважать его жизнь и свободу, и, овладев его личностью, приказал убить его вместе со всей его свитой.
Границы Австразии оставались без защиты перед вторжением, которое угрожало стать еще более разрушительным для ее институтов, чем вторжение Брунгильды в 612 году. Она внезапно избежала этой неминуемой опасности благодаря одному из самых обычных инцидентов в политических кризисах того времени: удару кинжала. Эброин, уже захвативший Шампань и Эльзас, был убит в разгар своего триумфа нейстрийцем, который сразу же побежал искать убежища и награды у Пипина Геристальского (680).
Побежденный при Лукофаго не мог думать о немедленной мести: он считал себя достаточно счастливым, заключив мирный договор с преемником Эброина, майордомом Вараттоном, человеком спокойным и склонным к примирению. Но партия действия, сильно организованная в Нейстрии и чувствовавшая свое превосходство, не хотела так легко отказываться от своей добычи и требовала войны до конца. Собственный сын Вараттона, по имени Гизлемар, встал во главе недовольных, лишил своего отца власти, повел новую армию вторжения в Австразию и нанес второй удар войскам Пипина. Страх, что его отец может заменить его во время его отсутствия, помешал ему воспользоваться своей победой и заставил поспешно вернуться в Нейстрию, где он вскоре умер. Вараттон, восстановленный в своей должности, занимал ее только два года, всегда стремясь избежать причин внешнего конфликта.
Но Бертаир, его зять и преемник, не последовал этому примеру. Он вернулся к политике Эброина и пренебрег советами и дружбой франков, по крайней мере тех, кого историки австразийской партии считают единственно значимыми, то есть членов аристократии. Кажется, он даже не остановился перед суровыми мерами, чтобы подчинить их; ведь изгнанные или бежавшие вельможи Нейстрии и Бургундии снова устремились к Пипину, умоляя о помощи его меча. Герцог колебался, вспоминая о своих недавних поражениях. Однако, убежденный в справедливости их дела, он сначала попытался добиться успеха мирными переговорами; он послал просить короля Теодориха принять изгнанных обратно в милость и вернуть им владения, которые у них были отняты. Эти владения, очевидно, в большинстве своем были отзывными бенефициями, связанными с фиском или переданными сторонникам Бертаира: просьба Пипина, таким образом, сводилась к тому, чтобы сместить политическое влияние в Нейстрии в пользу противников майордома. Король, по наущению последнего, ответил объявлением войны. Он сообщил посланникам, что сам отправится искать своих беглых слуг, которых Пипин принял у себя вопреки праву и закону50. С обеих сторон начались приготовления к войне. На этот раз столкновение двух армий произошло в бассейне Соммы, в Тестри, на берегах реки Оминьон (687 год). Пипин так мало желал этого вооруженного конфликта, что прежде чем вступить в бой и доверить судьбу родины случайностям сражения, он хотел исчерпать все пути к примирению. Он даже предложил значительную сумму денег, чтобы избежать борьбы. Слепая самонадеянность Бертаира заставила его отвергнуть все предложения о примирении.
Пипин, вынужденный сражаться, показал себя столь же умелым полководцем, каким он был осторожным переговорщиком. Благодаря искусно задуманной хитрости он прорвал вражеские линии и обратил противника в полное бегство. Бертаир, виновник катастрофы, был зарезан своими же соратниками, возмущенными его недальновидностью и трусостью. Бедный король Теодорих, который, конечно, не нес никакой ответственности за это предприятие, бежал до самой Сены, преследуемый австразийской армией. В конце концов, не зная, где найти верных и преданных друзей в своей неудаче, он решил дожидаться в Париже своего победителя и отдаться на его милость. Пипин не стал провоцировать новых раздоров среди франков каким-либо покушением на королевскую особу: он почтительно сохранил за меровингским принцем титул короля, как говорит анналист из Меца; но он взял в свои руки управление всей империей, королевские сокровища и командование всей армией франков51.
Одним словом, реальная власть полностью перешла в руки внука святого Арнульфа. Что касается потомка Хлодвига, сидевшего на своем троне в некоторых публичных церемониях с распущенными волосами и длинной бородой, то он, как говорит Эйнхард, представлял собой лишь монарха по названию. Он принимал иностранных послов и, при их отъезде, как бы по своей собственной воле, давал ответы, которые ему подсказывали или, скорее, приказывали. За исключением пустого титула короля и содержания, которое майордом назначал ему по своему усмотрению, он владел лишь одной виллой с очень скромным доходом, и именно там он держал свой двор, состоящий из очень небольшого числа слуг, выполнявших самые необходимые обязанности и подчинявшихся непосредственно его приказам. Он никуда не ездил иначе, как на повозке, запряженной волами и управляемой погонщиком, как у крестьян52.
Пипин Геристальский, как точно заметил Анри Мартен, был, под титулом майордома, тем, чем были первые франкские короли, – военным вождем и верховным судьей нации53. Как и основатели монархии, он был гораздо больше озабочен внешней ролью народов, подчиненных его власти, чем их соперничеством за преобладание. Вот почему, вместо того чтобы подражать Меровингам и воспользоваться восстановлением национального единства, чтобы обосноваться в более роскошных резиденциях Нейстрии, он остался в своих наследственных владениях, на передовых рубежах христианства, перенеся таким образом центр власти франков с берегов Сены на берега Мааса. Но большинство историков ошибочно видят в этом факте доказательство того, что власть вернулась вместе с ним к германскому миру. Напротив, именно романское влияние приобрело здесь всю территорию и сделало этот шаг вперед против варварства.
Впрочем, истинный характер революции, совершенной на поле битвы при Тестри, явно отмечен направлением, которое с тех пор приняла политика Пипина и его преемников. Вся история герцогов франков, предшественников Карла Великого, достаточно свидетельствует о том, что именно романскому обществу, а не германизму они обязаны вдохновением и что ему принадлежит вся честь их законодательных институтов, равно как и их военных подвигов.
IV
Тацит, говоря о древних германцах, сказал: Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. – У них королевское достоинство дается по рождению; действительное командование – по личной доблести. – Это различие хорошо характеризует вид governmental dualism, который был в силе у франков после битвы при Тестри. Истинная формула нового порядка вещей, выраженная в тех же терминах в хрониках и публичных актах того времени, заключается в том, что король царствует, а майордом управляет54.
Но, как едва ли нужно говорить, не следует искать в словах какой-либо аналогии между доктриной современного конституционализма и режимом, возникшим после австразийской победы 687 года. Власть, переместившись, не разделилась. Тогда не было места ни в умах, ни в нравах для сколько-нибудь сложного механизма политического уравновешивания. Лишенная своего всемогущества, меровингская династия тем самым была упразднена. То, что оставалось у нее еще на некоторое время престижа, она обязана была не реальным прерогативам своего нового положения, но, напротив, неведению масс об этом самом изменении или их неуверенности относительно продолжительности совершившейся революции. Дело в том, что монархия еще не была институтом; это был лишь факт. Эгоистичная и жестокая, как все другие социальные силы, с которыми она боролась, меровингская королевская власть, как мы видели, вообще преследовала лишь личные интересы, не заботясь и даже не сознавая общественной миссии, которую ей следовало выполнять. Однажды побежденная и обезоруженная, эта индивидуальная сила, лишенная морального действия, совершенно перестала иметь значение, и в продолжающемся процессе формирования галло-франкского общества ничего не изменилось из-за этого: просто стало одним элементом меньше, и притом худшим, я имею в виду цезаризм.
Аристократическая партия, в своей совокупности, была истинным победителем монархии, и по праву завоевания верховная власть принадлежала конфедерации крупных землевладельцев. Но этой партии было бы весьма затруднительно осуществлять ее, поскольку у нее никогда не было серьезной правительственной программы, и она, как и сама династия, во всех своих предприятиях руководствовалась слепыми и беспорядочными страстями. Поэтому великим левдам пришлось отречься в пользу своего вождя, Пипина, который один представлял традицию и волю.
Задача, которая тогда легла на герцога франков, наделенного безграничной властью при абсолютной ответственности, была самой серьезной и трудной, какая только может выпасть на долю главы государства. Гражданские раздоры почти не оставили от старого франкского империи ничего, кроме имени: социальный порядок и политическая мощь пережили одинаковый упадок. Восстановить согласие между разделенной нацией и правительством, возникшим из победы одной партии, было бы уже, конечно, тяжелым трудом; но это была наименьшая из трудностей ситуации. Ибо франкской нации почти не существовало, и сам принцип национального правительства был стерт. Нужно было восстановить, почти создать и то, и другое.
Восстановление военного влияния франков вовне и политического единства внутри, между различными провинциями королевства, стало главным делом Пипина Геристальского и Карла Мартелла. Что касается правительства, как оно вытекало из христианских принципов, заменивших старые имперские порядки, то в течение века и через тысячи проб оно едва получило свои зачаточные органы. Пипин Короткий должен был первым заложить его истинные основы, а Карл Великий – реализовать его гармоничное целое.
Из двух центральных институтов, в которых изначально заключался суверенитет, а именно королевской власти и национальных собраний, мы видели, до какого тщетного видимости была сведена первая победителем при Тетри. Он, напротив, стремился возродить вторую и вернуть ей ее первоначальное значение. При цезаристском режиме, который короли и майордомы Нейстрии старались установить, созыв больших ежегодных собраний как можно чаще игнорировался, и их политическое действие всегда подавлялось. Пипин Геристальский, говорят Мецские анналы, восстановил в этом отношении древний обычай и регулярно каждый год проводил Мартовское поле, куда все франки должны были являться под угрозой штрафа. Но легко понять, что древний обычай, упомянутый анналистом, соблюдался там лишь формально. То, что было сказано выше о роли ленивых королей в этих так называемых народных комициях, достаточно показывает, что это были уже не более чем церемониальные мероприятия, где короли показывались в пышности той части народа, которая жила близ их дворца и оставалась завистливой, желая их видеть, а не политическое собрание, участвующее в управлении55.
Характер и цель реформы, проведенной Пипином в этом пункте, кажутся преимущественно военными. Мартовское поле вновь стало местом сбора и общего смотра воинов перед началом ежегодных походов. Национальная армия, которая фактически представляла собой весь народ, активно участвовала в этом только через своих предводителей.
Члены, вызванные на эти собрания, должны были иметь мало личного интереса в том, чтобы присутствовать на них, и, с другой стороны, их пренебрежение должно было представляться герцогу франков как более серьезная проблема, чем отсутствие их контроля над его решениями или действиями, чтобы он решился наложить штраф на непокорных. Уголовная санкция за осуществление политического права – это утонченная концепция, совершенно чуждая умам VII века, и даже теоретики народного суверенитета до сих пор не смогли внедрить ее в современные конституции.
Таким образом, обсуждение государственных дел, ограниченное великими левдами и сосредоточенное на военных вопросах, не имело того всеобщего характера, который некоторые выражения хроник склонны ему приписывать. Ничто, по правде говоря, не напоминает меньше эти Мартовские поля конца VII века, чем малл времен завоевания, где все члены свободной франкской демократии имели равное право высказываться о предприятиях, руководство которыми было доверено королю племени. В ту эпоху законодательная деятельность исходила от сотрудничества двух агентов: короля и массы свободных людей. Эти два агента, ко второму веку территориального владения, потеряли всякую инициативу и оказались подчинены, уничтожены: первый – майордомом, второй – аристократическим корпусом. Законодательное влияние древнего малла перешло к другим, непериодическим собраниям, состав которых был еще менее национальным, чем состав Мартовского поля: своего рода конгрессы тогдашних социальных сил, как, например, собрание в Андело в 587 году, а затем в Париже в 614 году, где партия и даже семья австразийских майордомов особенно способствовали, если не введению, то по крайней мере утверждению преобладания нового элемента, совершенно негерманского по духу – епископата. Церковная и военная аристократия, таким образом, торжествовала здесь, как и везде, и порядок, который она стремилась установить, не менее отличался от анархической демократии племен за Рейном, чем от древней имперской централизации.
Внешняя политика Пипина дает еще более поразительное опровержение мнению, которое изображает его как защитника и восстановителя тевтонизма.
Франки, с тех пор как их независимая конфедерация появилась в истории, имели только враждебные отношения с другими ветвями германской семьи. Особенно после их поселения в христианской стране их главной заботой было сдерживать вторжения варварских племен, жаждущих разделить с ними добычу империи. Алеманны, тюринги, саксы, фризы, бавары и лангобарды, последовательно побежденные, обложенные данью первыми меровингскими королями, конечно, никогда не имели никаких оснований считать новых правителей Северной Галлии своими братьями. Но страх перед именем франков быстро ослаб среди их внутренних раздоров. Подчиненная Теутения постепенно смогла сбросить иго и вновь приняла агрессивную позицию вдоль всего Рейна, в то время как галло-римляне к югу от Луары и кельты Армориканского полуострова восстанавливали свои свободные государства под руководством своих национальных вождей. Все границы были одновременно под угрозой.



