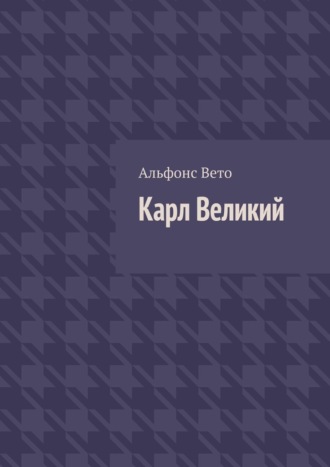
Полная версия
Карл Великий
Более того, спустя двести лет после расчленения Западной империи экзархат представлялся итальянскому патриотизму не более чем правительством иностранной оккупации. Не имея возможности оправдать эффективной защитой тяжелые жертвы, которые он налагал на жителей, он безвозмездно ранил национальные устремления. Ведь настоящая Италия не хотела быть греческой, как не хотела быть лангобардской: ее гений вел ее к федерализму. Привязанность народа к своим муниципальным правам и католической ортодоксии заставляла его одинаково ненавидеть упрямый деспотизм греков и грубость еретиков-лангобардов. Его вождями были не делегаты константинопольских или павийских монархов, а свободные магистраты его городов и особенно епископы, настоящие авторы свержения готского королевства; центром его притяжения всегда был Рим. Там непреодолимое течение общественного мнения и всевозможные социальные нужды ежедневно расширяли гражданские полномочия понтифика. Беглецы из городов, угнетаемых лангобардами, приходили за убежищем и защитой к нему, а не к экзарху; в бедственном и запущенном положении империи именно казна Римской церкви обеспечивала не только выкуп пленных, но и жалованье ополченцам, строительство и содержание военных объектов. Уже в конце II века святой Григорий Великий, несмотря на свою сильную душу, сгибался под бременем понтификата и мог искренне жаловаться, что ему приходится исполнять не столько обязанности пастыря душ, сколько обязанности мирского князя. Действительно, Италия не знала другого государя, кроме него. Успешно возглавив оборону Вечного города от лангобардского короля Агилульфа, он один оказался в состоянии вести переговоры о мире с агрессором от имени римского народа. Экзарх напрасно протестовал против инициативы папы, благодаря которой сам экзархат был спасен от неминуемой гибели, но на полуострове это не нашло отклика.
Еще более века преемники святого Григория Великого, постоянно враждуя с дряхлой восприимчивостью империи, не уставали обращать свое огромное влияние себе на пользу и исполнять возложенную на экзархат миссию. Ни их популярность, ни неблагодарность власти, которой они служили, не могли побудить их разорвать узы почтения, связывавшие Святой престол с троном Константина. Раскол, которого требовали политические интересы Запада, должен был быть произведен самими кесарями и на религиозной почве. Потребовались их теологические эксцессы и святотатственные эдикты, а также восстание ортодоксальной Италии, чтобы заставить папство признать на законодательном уровне (хотя и с большим темпераментом!) давно установленный факт его временного суверенитета над населением, которое его признавало.
Императоры Гераклиды, коронованные софисты, вступили в эту смертельную борьбу, претендуя на то, чтобы навязать в качестве государственного закона всем своим подданным, даже верховному понтифику, монофелитское заблуждение, согласно которому Иисус Христос, несмотря на свою двойственную природу, обладал лишь одной волей. Разъяренный сопротивлением пап и подчинивший все государственные интересы торжеству философского тезиса, византийский двор отныне был представлен в Италии под именем экзархов и герцогов только официальными сектантами. К и без того непомерным поборам добавились религиозные преследования, чтобы вызвать раздражение населения. Святой Мартин I, виновный в том, что не склонился перед доктринальной непогрешимостью императора Ираклеонаса, вскоре был выдворен из Вечного города, перевезен в Грецию и подвергся тысяче поношений. Но католики, чувствуя свою силу и правоту, решили отразить войну войной и встали на страже вокруг папской резиденции. Поэтому, когда полвека спустя Юстиниан II попытался похитить папу Сергия, чтобы вымогать у него одобрение актов раскольничьего собрания, известного как Собор в Трулло (692 г.), народное ополчение предотвратило успех этого нового нападения. Авторитета папы едва хватило, чтобы спасти императорских эмиссаров от законного гнева его защитников. Народная демонстрация, не менее стихийная и непреодолимая, защитила преемника Сергия, Иоанна VI, от насилия, задуманного экзархом. В конце концов, просвещенный этим троекратным опытом, Рим закрыл свои стены перед этим вечным агентом измены, которого империя содержала как герцога возле Латерана. После кровавого побоища, которое удалось остановить только папе, герцог Петр, делегат императора Филиппика, был изгнан из города, и горожане заменили его человеком по своему выбору (713). С этого дня имя императора исчезло с монет, официальных документов и общественных молитв. Территория Рима теперь зависела от Константинополя только в плане дани.
Но далеко не политическая эмансипация римлян была в поле зрения понтифика, Константин, напротив, в то же время стремился прояснить чисто религиозный характер борьбы, которую он вел как глава Церкви. Причиной конфликта стал Шестой Вселенский собор, состоявшийся в Константинополе в 680 году, правомочность которого Филиппик отрицал и сжег. Для просвещения верующих папа согласился, чтобы шесть Вселенских соборов были изображены на портике базилики Святого Петра. Этот протест, несмотря на его умеренную форму, привел к тому самому кризису, который привел к освобождению имперской Италии, потому что он, возможно, больше, чем какая-либо другая причина, способствовал провоцированию иконоборческих гонений.
После Филиппика началась новая династия, династия Исавров, грубых горцев, чуждых, правда, ссорам школ и презрительно относящихся к богословским тонкостям, но которых само их невежество и узость мышления располагали к тому, чтобы вести до последних последствий открытую войну против первенства Апостольского престола. Лев III, глава этой семьи, в юности, под влиянием иудеев и мусульман, привык считать идолопоклонством почитание благочестивых изображений. Когда он стал императором, его доктрина приобрела тем большее доверие, что давала раскольникам-грекам возможность нанести папству новую несправедливость, отменив материальное изображение объектов поклонения, которое латинская церковь так успешно использовала для закрепления в сознании людей традиции веры. Этим объясняется быстрое развитие секты нарушителей образа и ее яростные попытки навязать себя столице католицизма.
Вся имперская Италия, уязвленная не только в ортодоксальности, но даже в художественных вкусах, избавилась от своих византийских офицеров и объединилась с Римом, чтобы навсегда сбросить иго восточного деспотизма. В Равенне экзарху перерезали горло. Города Пентаполиса и Венето, а затем и сам Неаполь
провозгласили свою независимость и избрали национальных герцогов (726). Не довольствуясь обороной, ополченцы этих маленьких объединившихся республик объявили о своем намерении назначить католического императора и свергнуть гонителя Льва. За этим восстанием стояли лангобарды, обращенные в христианство тридцатью годами ранее, и не без скрытых мотивов. Их король, Лиутпранд, льстил себе, что увеличит свои государства за счет трофеев империи. Но папа Григорий II, проницательный ум и верный характер, знал, как предотвратить опасность изнутри и не усугубить ее извне. Он отговаривал своих сторонников от создания нового императора, призывая их дождаться обращения Льва и оставаться верными гражданскому правлению, которое они должны были соблюдать перед государями Византии, даже если они были еретиками. Сохранение этого суверенитета, который на данный момент был чисто номинальным, казалось папе продиктованным веками сложившейся традицией, а также интересами итальянских провинций, которые своей изоляцией могли подвергнуться жажде со стороны своего могущественного северного соседа. Однако если страх перед лангобардами склонял его к сближению с греками, то идти на компромисс с ересью он точно не собирался.
Лев, опасаясь непредвиденных последствий гонений, предложил ему решить спор на соборе: «Это ты, – сурово ответил понтифик, – виновник зла; тебе стоит только остановиться, и мир будет в покое; оставайся в покое, и не будет нужды в синоде. Только напишите во всех странах, что вы согрешили против Константинопольского патриарха и папы Григория, и мы дадим вам мир; мы сотрем вашу вину, мы, получившие от Бога власть связывать на небе и на земле». Даже если эта твердая позиция послужила предлогом для отступления Востока, понтифик, в конце концов, знал, что Церкви будет нетрудно компенсировать эту потерю. Ему были хорошо известны ресурсы Запада, великого организатора апостольства среди германских народов, и вот что он сказал своему противнику: «Ты думаешь, что сможешь запугать нас, сказав: Я пошлю в Рим, чтобы разбить образ святого Петра, и прикажу увезти папу Григория в кандалах, как когда-то Констанций увез Мартина. Знайте
что папы являются посредниками и арбитрами мира между Востоком и Западом84.
Излишний призыв к миру. Ни император, ни итальянцы не стали его слушать. Отделившиеся от Византии города просили папу не возвращать их в прежнее подчинение, а, напротив, освятить их освобождение, став самому главой их выборных герцогов. Стремительно разворачивающиеся события не позволили Григорию долго отказываться от этой опасной чести. Уже сейчас Лиутпранд, благодаря своим первоначальным колебаниям, начал претворять в жизнь свой план унитарного правления. Он захватил Равенну и экзархат. Покончив с греческим господством на Апеннинском полуострове, он вознамерился заменить его. Овладев побережьем, он проник в Римское герцогство и осадил Вечный город. Оказавшись в противоборстве с лангобардскими амбициями и еще не освободившись от византийских интриг, папа, к счастью, сумел поочередно бороться с этими двумя враждебными силами. Он способствовал восстановлению греческого экзарха в Равенне, городе, который был более враждебен к своим новым хозяевам, чем к старым, и эта диверсия позволила создать конфедерацию Центра. Ибо после кратковременного восстановления экзархата и Пентаполиса – чьи территории более или менее соответствовали тому, что с тех пор называется Романьей, герцогством Урбино и Анконским марком, – императорская власть навсегда прекратилась к западу от Апеннин. С революции 726 года папский суверенитет в Римском герцогстве был полным и окончательным, хотя Григорий II и его преемник считали себя, по крайней мере, на пятнадцать лет, не более чем заместителями императора-еретика, готовыми вернуться к его повиновению, если он прекратит преследования Церкви. Другими небольшими государствами, также отделившимися от империи и с того же времени перешедшими под сюзеренитет Святого престола, были Неаполитанское герцогство, Венеция, также управляемая герцогом (дожем последующих веков), и Сицилия, управляемая патрицием.
Какими бы слабыми ни были поначалу узы такого объединения, время только укрепило его, и через двенадцать лет его престиж был уже таков, что он привлек к федеративному делу двух вассалов лангобардской короны, герцогов Сполето и Беневенто (739). Но раскрытие этой привлекательной силы было сопряжено с опасностью. Лиутпранд взялся за оружие, чтобы наказать своих мятежных подданных, но народные ополчения конфедерации были не в состоянии противостоять ему, и герцогу Сполето Тразимунду оставалось только бежать в Рим за прибежищем, гарантированным каждому христианину у гробницы святых апостолов. Григорий III в то время управлял Церковью и Римской республикой. Попросив Лиутпранда выдать Тразимунда, он отказался нарушить право на убежище. Этот инцидент предоставил королю благоприятную возможность возобновить свои завоевательные планы. Он немедленно вторгся в Папское государство, захватив четыре города, и вскоре появился перед стенами Рима.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
См. D. Bouquet, Recueil des hist. des Gaules et de France, т. II, стр. 397.
2
Современные историки чаще используют романскую форму этого имени, появившуюся примерно пять веков спустя, – Брунегильда. Мы считаем необходимым сохранить её франкское окончание, общее для многих других женских имён той эпохи, которые будут упомянуты в этой истории, таких как Блитильда, Сихильда и т. д.
3
Иными словами, потомки Арнульфа (как первая баварская династия, основанная Агилульфом, называлась Агилульфинге). Мы взяли на себя смелость создать это слово, вместо того чтобы совершить странный анахронизм, назвав предков первого Карла из этой семьи, которым был Карл-Мартель, Каролингами (сыновьями Карла).
4
Aviti epist. 41, ap. Sirmond.
5
Anastasii papæ epist., ap. de Pétigny, t. II, p. 432.
6
Озан, Христианская цивилизация у франков, гл. III, стр. 75.
7
То есть галло-римского.
8
Христианская цивилизация у франков, гл. III, стр. 90.
9
De Gubernatione Dei.
10
Аймоин, монах Флориакский. «Деяния франков», кн. III, у Д. Буке, т. III, стр. 96.
11
Капитулярий Хильдеберта II, 594 г., у Д. Буке, т. IV, стр. 111.
12
У Озанама, «Христианская цивилизация у франков».
13
Теодерих, чаще именуемый в наших историях Тьерри. Мы не видим особой причины изменять здесь две этимологические слога, которые обычно уважают в других франкских именах того же периода, таких как Теодеберт и Хильперик.
14
Лео, Карл Великий, по своему происхождению римлянин. См. генеалогическое древо, составленное для этой цели Лео в Warnkœnig и Gérard, Hist. des Carolingiens, т. I, стр. 113.
15
Буркхард, Quæstiones aliquot Caroli Martellis historiam illustrantes.
16
Среди прочих Пертц, Monumenta Germanicæ historica, т. I, Scriptor, p. 316, примечание; и Варнкёниг и Жерар, Hist. des Carol, т. I, p. 120.
17
Acta SS. t. IV, Julii, p. 423.
18
Annal. mettens. ann. 687; D. Bouquet, t. II, p. 603, note b.
19
Warnkœnig and Gérard, Hist. des Carol, t. I, p. 99.
20
Кардинал Питра, Hist. de S. Léger, цит. по Darras, Hist. générale de l’Église, t. XVI, p. 42.
21
Aimoini monachi Floriacens, lib. IV, ap. D. Bouquet, t. III, p. 116.
22
Labbe, Conc., t. V, col. 1649 et suiv.
23
Gregor. Turon., Hist. Francor., lib. V, ap. D. Bouquet, t. II.
24
Schœne, Die Amtsgewalt der Frankischen Majores domus.
25
Vita Peppini ducis, ap. D. Bouquet, t. II, p. 603.
26
Ap. Bolland., Acta SS., t. III, Februar., p. 253 et suiv.
27
Ap. Bolland., Acta SS., t. III, Februar., p. 253 et suiv.
28
Fredegarii Chron., cap. LIII.
29
Vita S. Sigeberti, cap. III; Lehuërou, Hist. des institutions carolingiennes, liv. II, ch. I, p. 260.
30
Fredegarii Chron., cap. LVII.
31
Fredegarii Chron., cap. LXXV.
32
Fredegarii Chron., cap. LXXV.
33
Sismondi, Hist. des Français, t. III.
34
Aimoin. Floriacens., De Gestis Francor., lib. IV, ap. D. Bouquet, t. III, p. 136.
35
Miræus, Opera diplomatica, t. IV, p. 173 et 281.
36
Святой Колумбан (543—615) – ирландский миссионер, основатель монастырей в Бельгии, Швейцарии и Италии. Родился в Ленстере, получил образование в монастыре Бангор в графстве Даун. Около 590 года вместе с 12 монахами покинул Ирландию и отправился на континент с миссионерскими целями. Прибыв в Галлию, Колумбан остановился в Вогезских горах, где основал три монастыря: Аннегрей, Люксёй и Фонтен. Позже, оставив проповедовать одного из своих учеников – преподобного Галла, Колумбан направился в Италию и в 612—614 годах основал там монастырь Боббио. Скончался 23 ноября 615 года в Боббио.
37
Филлан – шотландский святой ирландского происхождения. Дни памяти – 19 июня и 20 июня.
38
Abbas a Ryckel, Vita sanctæ Beggœ, p. 55.
39
Vita sancti Remacli, ap. Du Chesne, t. I, p. 645.
40
Annales Mettens. ann. 687, ap. Pertz, t. I, p. 316.
41
Lehuërou, Hist. des inst. carol, liv. II, ch. I, p. 270.
42
Vita S. Leodeg., auctore monacho S. Symphoriani Augustodun., cap. III.
43
Vita S. Leodeg., auctore monacho S. Symphoriani Augustodun.. cap. III.
44
Vita S. Leodeg., auctore anonymo Augustodun., cap. VII.
45
Vita S. Wilfridi episc. Eboracens.
46
Vita S. Wilfridi episc. Eboracens.
47
Сын Клодульфа.
48
При Лукофаго, вероятно, Люфо, между Ланом и Суассоном.
49
Лан-ле-Клуэ.
50
Анналы Меца.
51
Анналы Меца, год 787.
52
Eginhard, Vita Karoli Magni, cap. I, ap. D. Bouquet, t. V.
53
Hist. de France, t. II.
54
Regnante rege, gubernante N., majore domus. Vid. Warnkœnig et Gérard, Hist. des Carol., t. I, p. 253.
55
Гизо, Очерки по истории Франции, IV Очерк.
56
Озанам, «Христианская цивилизация у франков», гл. IV, стр. 142.
57
Озанам, «Христианская цивилизация у франков», гл. V, стр. 176.
58
См. у Брекиньи, т. IV, стр. 203, 212, 219, 274, 298, акты религиозных оснований, исходящие совместно от Пипина и Плектруды.
59
Годешаль, Gesta Pontific. Leod., т. I, стр. 336—399; Эно, Hist. du pays de Liége.
60
Она удалилась в монастырь, основанный ею в Орп-ле-Гран, близ Жодуань. См. Варнкёниг и Жерар, Hist. des Carol., т. I, стр. 131.
61
Анналы Меттенс., год 716.
62
Chron. Moissiac., cap. CIII.
63
Annales Mettens., ann. 716.
64
Продолжение Хроники Фредегара, гл. CVI.
65
Хартия Алаона. См. критику этого документа Рабанисом, «Меровинги Аквитании»; и в «Библиотеке Школы хартий», серия IV, т. II, стр. 257.
66
Анри Мартен, «История Франции», т. II, кн. XII, стр. 202.
67
Озанам, Христианская цивилизация у франков, гл. V, стр. 190.
68
Эта тезис была, в частности, поддержана Беньо, «Мемуары о грабеже церковных имуществ, приписываемом Карлу Мартеллу»; в «Мемуарах Института», Академия надписей и изящной словесности, т. XIX, стр. 261.
69
Цит. по Даррасу, «Общая история Церкви», т. XVII, гл. I, стр. 54.
70
Пертц, «Monumenta», и т.д., «Leges», т. I, стр. 18.
71
Цит. по Вурдтвейну, «Epistolæ S. Bonifacii», письма V и XI, стр. 21 и 29.
72
Vid. ap. Warnkœnig and Gérard, Hist. des Carol, t. I, p. 200.
73
Mabillon, De re diplomatica, supplement., cap. IX.
74
Vid. Gérard, Hist. des Carol. ap. Warnkœnig, la dissertation sur le lieu de naissance de Charlemagne, t. I, p. 140 et suiv.
75
Eginh., Vita Karoli magni, cap. IV.
76
Cartulf. Instructio epistolaris ad Carolum regem, ap. Migne, Patrolog. lat. t. XCVI, col. 1363.
77
Gesta reg. franc., ann. 751. Le texte est cité ap. Lehuërou, Hist. des institutions carol., p. 99, note.
78
Les Annales de Lorsch, ad ann. 749, disent à tort: Per auctoritatem apostolicam jussit Pippinum regem fieri. Ap. Pertz, Monum., t. I, p. 136.
79
Chateaubriand, Études historiques, t. III, p. 243.
80
Annales Lauriss, ann. 750, ap. Pertz, t. I, p. 136.
81
Darras, Hist. génér. de l’Église, t. XVII, ch. II, p. 243.
82
Ozanam, la Civilis. chrét. chez les Francs, ch. VIII, p. 349.
83
Sur les origines du pouvoir temporel, voyez Gosselin, du Pouvoir du pape au moyen âge.
84
Gregor. II, Epist. XII, ap. Migne, Patrolog. lat. cursus complet., t. LXXXIX, col. 511- 521.



