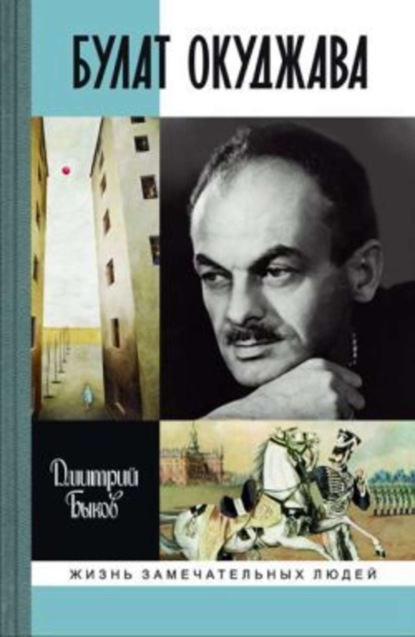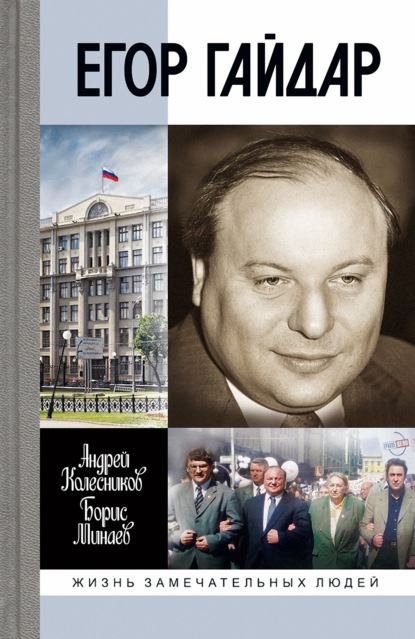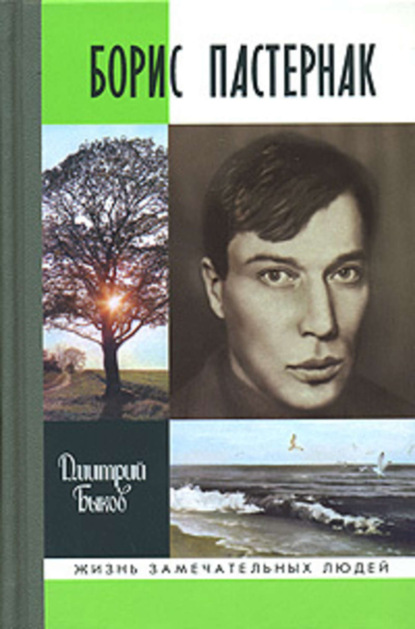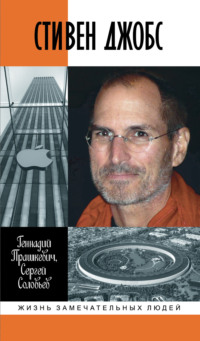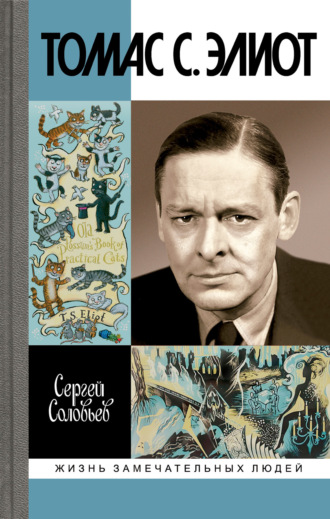
Полная версия
Томас С. Элиот. Поэт Чистилища
Вернемся, однако, к литературе.
Оглядываясь назад, Элиот писал, что в юности «стихотворение или поэзия какого-то поэта иногда вторгаются в молодое сознание и полностью им овладевают на некоторое время… Зачастую результатом является взрыв сочинительства, которое мы можем назвать подражанием… Это не намеренный выбор поэта для имитации, но писательство в состоянии своего рода демонической одержимости одним поэтом»[41].
К концу школы он научился сознательно выбирать поэтов для подражания.
Последний год в Smith Academy ознаменовался несколькими публикациями, подписанными «Т. С. Элиот», в «Smith Academy Record», журнале, выпускавшемся школой, а не самим Томом. От школьных товарищей автора отличала большая способность к имитации и умение организовать разнообразный материал.
«A Fable for Feasters» («Басня для Празднующих» о призраке в средневековом монастыре) была написана в стиле «Дон Жуана» Байрона. Чувствовалось в ней и влияние викторианского юмора, высмеивающего «мрачное средневековье». Генрих VIII с его восемью женами упоминался как «король-мормон». Для ободрения сонных монахов использовался Knout – это русское слово было зыбким мостиком, связывавшим Тома с Россией, о которой он, как и подавляющее большинство его сограждан, ничего не знал.
Стихотворение «A Lyric» («Лирика») – в стиле Бена Джонсона.
Опубликовал «Record» и прозу Тома. Мрачный рассказ о стервятниках на поле битвы («Birds of Prey») и «сказки» – о двух моряках, потерпевших кораблекрушение и живущих на спине кита («Tale of the Whale»), и о другом моряке, капитане, оказавшемся хозяином необитаемого острова («The Man Who Was King»). Тут чувствовалось влияние Киплинга.
В том же году Том получил золотую школьную медаль за успехи в латыни. Отец подарил ему по такому случаю 25 долларов. Часть из них Том тайком от родителей потратил на то, чтобы купить томик Перси Биши Шелли, считавшегося атеистом и не допущенного в домашнюю библиотеку. Маленький бунт? Шелли был очередным его увлечением, правда недолго.
Скиталица небес, печальная луна,Как скорбно с высоты на землю ты глядишь!<…>Всегда, везде – одна,Не зная, на кого лучистый взор склонить,Не зная ничего, что́ можно полюбить![42]6Еще одна составляющая той волшебной смеси, которую называют детством, – летние каникулы.
Каникулы в Новой Англии стали семейной традицией еще до рождения Тома, по инициативе его деда, сохранившего связь с местами, где он родился и вырос.
После кончины Уильяма Гринлифа традицию продолжил Генри Уэйр. На лето Элиоты ездили сначала в Хэмптон-Бич в штате Нью-Гемпшир, затем, с 1893 года, в Глостер – океанский рыболовный порт в штате Массачусетс. Теперь поездки занимали не больше двух суток по железной дороге, а вагоны стали намного комфортабельнее, чем пятьдесят лет тому назад.
В Новой Англии они оставались с июня по октябрь. В первые годы они жили в гостинице с «литературным» названием «Готорн инн». Потом Генри Уэйр купил участок и построил дом на мысу под названием Истерн-Пойнт. С одной стороны открывался вид на океан, а с другой – на гавань Глостера. Взрослые шутили, что Атлантический океан – это огромное озеро, на восточном берегу которого находится Англия. Но пересечь его никто из них не стремился. К бывшей метрополии большинство американцев относилось с подозрением, и старшие Элиоты не были исключением. Для Тома, однако, с этих выездов началось обратное движение, возвращение к «исторической родине».
Искореженные океанскими ветрами сосны, можжевельник, обточенные волнами гранитные скалы. С конца каменистого мыса виднеются гранитные островки, почти скрытые волнами, а во время прилива совсем незаметные. У островков есть свои имена – например, группа из трех маленьких островков зовется Драй Сэлведжес. Считается, что это искаженное французское trois sauvages – «три дикаря». Они особенно опасны для моряков в бурю.
На каникулах Том много читал – сохранилось немало фотографий, где он сидит с книжкой на веранде. Но вдали от школы складывались иные отношения с природным, не городским миром. Недаром он возил с собой книгу о наблюдении за птицами.
Менялось и отношение к собственному телу. В школе для Тома исключалось участие в занятиях спортом и соревнованиях. Здесь – другое дело. Он учился плавать и брал уроки хождения под парусом у старого моряка по прозвищу Шкипер, а позже сам выходил в море на лодке или на яхте.
Река внутри нас, море вокруг нас,Море к тому же граница земли, гранита,В который бьется; заливов, в которыхРазбрасывает намеки на дни творенья —Медузу, краба, китовый хребет…[43]Позже, с другого берега океана, в письмах родным, он часто вспоминал Глостер: «Гавань в Бошэме не такая хорошая, как в Глостере, потому что здесь узкий канал и сильный прилив, но хождение под парусом везде одинаково…»[44]
Глава вторая. Гарвардец
1Предполагалось, что после Smith Academy Том сразу поступит в Гарвард, самый престижный университет Новой Англии. К слову, Элиоты из Сент-Луиса находились в родстве с тогдашним президентом Гарварда, тоже Элиотом. Вступительные экзамены Том сдавал заранее, частью в 1904-м, а частью в 1905 году. Правда, к концу школы его оценки резко снизились. На экзаменах они тоже оказались неблестящими.
На семейном совете решено было, что ему лучше провести год в Milton Academy под Бостоном, специализировавшейся на подготовке к Гарварду. В связи с этим мать Тома отправила ряд писем директору Milton Academy[45]. В первом письме (27 марта 1905 г.) она писала: «Моему сыну шестнадцать лет… Его достижения в школе высоки, но в последнее время он быстро рос, и с учетом его здоровья у нас сложилось впечатление, что ему лучше было бы подождать, прежде чем поступать в колледж…»
В ее словах о высоких достижениях есть некоторое лукавство, но быстрый рост – чистая правда. На фотографиях можно видеть тонкого, тянущегося ввысь ушастого подростка. Вскоре ему предстояло достичь своих пяти футов одиннадцати дюймов – 187,5 см. И крючковатый нос хищной птицы, такой заметный в будущем, уже вполне узнаваем… Так и не назвав оценок сына, Шарлотта сообщала, что он заранее сдал вступительные экзамены в Гарвард, а в прошлом году получил приз по латыни.
В ответ директор поинтересовался, каковы же оценки. Но в следующем письме (от 4 апреля) содержался только список предметов, сделанный рукой Тома, с указанием числа «кредитов» (а не оценок) за каждый. Шарлотта уклонилась от прямого ответа – вместо него вновь следовали похвалы сыновним талантам:
«Немецкий он изучал всего два года, причем в течение одного у него был плохой учитель, и готов продолжать заниматься этим языком, но может обойтись без французского, поскольку тут ему нужна главным образом разговорная практика. Я думаю, что на этот год латынь и греческий для него необязательны. В прошлом году он получил в Smith Academy премию по латыни… Он всегда был склонен к учебе и много читал по английской литературе… Он читал практически всего Шекспира, которым он восхищается, и многое знает наизусть.
Теперь мы отчасти следуем его собственным желаниям, рассматривая возможность послать его на год в Мильтон <…> он очень дружелюбен, обладает мягким характером, джентльмен во всем, в быту очень скромен и нетребователен, и в то же время самодостаточен.
Мы двадцать пять лет жили в старом доме Элиотов, в то время как все наши друзья переехали, и Том нуждается в товарищах, которых он был из-за этого лишен…
Если вы полагаете, что Том сможет освоить курс, и вы советуете ему это, и готовы его взять, я приму решение в самом скором времени…
Его учитель говорит, что он может поступить в Гарвард на следующий год, не сдавая заново экзамены…»
К письму был приложен длинный список пройденного (английский язык и литература, французский язык и литература, латынь, греческий, история Греции и Рима, физика…).
В начале апреля Шарлотта Чэмп Элиот послала в Milton Academy официальную просьбу о приеме Тома в школу. И только в июле (22-го) она наконец сообщила директору об оценках: В+ по истории (соответствует 4+), В по французскому, С по английскому, латыни, греческому и алгебре, D по геометрии (планиметрии) и провальное Е по физике. Пытаясь объяснить оценку по физике, она сообщала, что учитель недавно испытал «нервный срыв» и не смог дожным образом завершить курс.
В письме от 23 июля она просила директора о личной встрече с нею и с Томом, чтобы получить подтверждение, что его примут. Ответ пришел от секретаря, т. к. директора не было в городе. В письме от 26 июля она снова просила о встрече, теперь уже в августе, со значением подчеркивая, что идею обучения в Milton Academy одобряет сам президент Гарварда. Письмо заканчивалось приглашением погостить денек в Истерн Пойнт, в доме Элиотов и полюбоваться прекрасным видом.
Наконец вопрос с поступлением был улажен. Следующее письмо, от 28 августа, интересно подробным обсуждением учебных предметов, которые мог бы выбрать Том, что подчеркивало почти всеохватывающий характер родительской опеки. Рассматривалось также несколько практических вопросов – например, какого размера сундучок для вещей брать в общежитие и понадобится ли фрак для торжественных случаев… В сентябре (Том уже принят) уточнялось его отношение к спорту:
«Я думаю, лучше, если я объясню вам, почему Том не может играть в футбол и участвовать в занятиях другими видами спорта, требующих физического напряжения, где существует риск резких усилий. Он страдает от врожденного разрыва (брюшной стенки. – С. С.), который, по мнению нашего доктора, поверхностно излечился, но, поскольку мышцы живота в этом месте до сих пор ослаблены, по-прежнему необходима осторожность… Том до сих пор не понимает до конца границы своих физических возможностей, будучи едва ли не единственным, кого освободили от футбола…»[46]
Наконец, в мае 1906 года Шарлотта обсуждала вопрос о купании сына: «Том написал домой, прося дать разрешение на купание в каменном карьере рядом с Академией. Поскольку требование такого разрешения – это нечто новое, создается впечатление, что тут есть какая-то опасность, и мистер Элиот и я хотели бы знать, каковы условия купания…»
После того как директор успокоил родителей, что купание происходит в безопасных условиях, разрешение все же было дано. В своем письме он также уверял, что Том кажется теперь гораздо счастливее, чем в первые месяцы в школе, и гораздо больше и охотнее общается с товарищами.
Можно добавить, что отношения у Тома с товарищами по школе сложились вполне приличные, но ему почему-то дали прозвище «Большой Шлем» (имея в виду, скорей всего, карточный термин).
Год в Milton Academy почти не привел к улучшению оценок. Но, пересдав физику, следующей осенью Том все же поступил в Гарвард.
2Президент Гарвардского университета Чарльз Уильям Элиот (1834–1926), родственник сент-луисских Элиотов, своим деятельным характером во многом напоминал У. Г. Элиота. Он возглавлял университет в течение 40 лет, с 1869 по 1909 год. Президентом он стал в необычно молодом возрасте в связи с реформой Гарварда, уменьшившей влияние религиозных, в том числе унитарианских, кругов. В результате реформы попечительский совет университета стал избираться голосованием выпускников прежних лет.
Ч. У. Элиот, сам окончивший Гарвард, преподавал там химию и математику, но потом, в 1863-м, когда интриги помешали ему занять престижную Румфордовскую кафедру профессора прикладной физики и химии, на несколько лет отправился в Европу – изучать европейскую систему образования. По его словам, «пуритане думали, что им необходимы образованные священники для церкви, и они поддерживали Гарвардский колледж, – когда американский народ убедится, что ему нужны более компетентные химики, инженеры, художники, архитекторы… он …создаст институты, которые смогут их подготовить. Тем временем свобода и американский дух предпринимательства помогут нам, как они помогали в прошлом…»[47].
В результате реформ образование в Гарварде было организовано по европейскому образцу. Для поступления требовалась сдача вступительных экзаменов, лекции дополнялись семинарскими занятиями, каждый семестр заканчивался экзаменационной сессией. Резко сократилось преподавание латыни, греческого и другой «классики» – критики обвиняли Ч. У. Элиота, что он «лишил американскую юность классического наследия». Намного увеличился объем естественнонаучных и прикладных дисциплин. Еще одним новшеством стала космополитическая открытость мировой науке.
Ч. У. Элиот боролся с расизмом, и при нем Гарвард, в отличие от большинства американских университетов того времени, охотно принимал чернокожих студентов. Боролся он и с влиянием лоббистов, пытавшихся ограничить прием евреев или католиков. В то же время он пытался запретить командные игры вроде футбола и был противником женского образования.
3Гарвардский университет находится в Кембриджe, штат Массачусетс. От Бостона его отделяет река Чарльз-Ривер.
За несколько лет до Тома Гарвард окончил его старший брат Генри, который был источником разнообразных практических советов. По его совету родители сняли Тому комнату на так называемом золотом берегу по адресу 52 Mount Auburn Street. Чуть ближе к Чарльз-Ривер начинался менее привелигированный серебряный берег. Соседями Тома в 1906/1907 учебном году были его товарищи по Milton Academy Роберт Хэйдок, Чарльз Перкинс и Констант Венделл.
Комната была не просто комнатой. Условия жизни студентов из состоятельных семей больше напоминали холостяцкий быт Шерлока Холмса и доктора Уотсона в рассказах Конан Дойля: «У каждого студента… была своя собственная спальня, но они делили между собой просторную гостиную…»[48]
Советы старшего брата не ограничивались, вероятно, правильным выбором жилья. Генри Уэйр Элиот-мл. закончил университет в 1902 году. Он пользовался популярностью на своем курсе и был редактором студенческого журнала «Harvard Lampoon» (название можно перевести как «Гарвардский смехач»). Ему принадлежало авторство шутливой поэмы «The Freshman’s Meditation» («Медитация первокурсника»), герой которой с энтузиазмом восклицает: «Ура! Я полноценный гарвардец теперь!»[49]
Новичку кружит голову чувство свободы. Его комната украшена университетскими флагами и бордовыми подушками (это цвет университета), а где-то не на виду хранится сундучок со льдом для бутылок – ведь холодильников тогда не было.
Радость, что удалось избавиться от родительской опеки, влияние приятелей, легкомысленно понятые советы брата – вряд ли есть смысл пытаться точно определять причину того, что первокурсник, еще недавно с восторгом думавший «я – студент», после первой же сессии оказался на грани вылета. С Томом в Гарварде произошло именно это, а его сосед Констант Венделл вскоре испытал нервный срыв и вообще покинул Гарвард…
Не все соблазны студенческой жизни угрожали Тому в равной степени. Единственным женским учебным заведением в Кембридже тогда был Радклифф-колледж. Но много ли надо первокурснику, чтобы почувствовать себя взрослым?
В путеводителе по Гарварду 1907 года говорилось: «между Ярдом (Harvard Yard, зеленая зона в центре кампуса. – С. С.) и Чарльз-Ривер… образовался центр… где общественный дух, приверженность своим колледжам, литературные, музыкальные и другие студенческие интересы находят свое выражение… На Массачусетс-авеню, напротив Ярда, и на Гарвард-сквер, к юго-западу, находятся магазины, рестораны, бильярдные и т. п., наиболее популярные среди студентов…» Там же находились и многочисленные клубы, располагавшие собственными обеденными залами и барами.
Том играл на бильярде – это известно из его писем знакомым. Принимал участие в студенческих розыгрышах. Читал он, правда, еще больше, чем раньше – но очень бессистемно, особенно в первый год.
У некоторых студентов были автомобили, но в основном по Кембриджу ходили пешком. В университете училось около 5000 студентов – впрочем, в английских Оксфорде и Кембридже училось тогда примерно столько же. Тихий городок по сравнению с Сент-Луисом мог казаться деревней, хотя его население составляло около 100 тысяч человек, а население соседнего Бостона перевалило за 600 тысяч.
В нескольких минутах ходьбы от Маунт-Оберн-стрит находились музыкальные кафе, где можно было просидеть весь вечер, а заодно и поужинать. Поблизости – магазины и ателье модной одежды, в основном мужской – например «Альфред Р. Браун и К°». Купить канцелярские принадлежности или заказать визитные карточки можно было в магазинах вроде «Все, что нужно студенту» братьев Эме.
Хорошо одеваться Том любил и умел – скорей всего, он отточил это умение именно в Гарварде. Студенты, тем более отпрыски «хороших семей», легче учебных предметов усваивали характерный для старейшего американского университета снобизм. Например, уважающему себя студенту полагалось иметь два носовых платка – аккуратно сложенный в нагрудном кармане, и другой, в который можно было сморкаться.
Колоритные рассказы о студенческой жизни тех лет можно найти в литературном студенческом журнале «Harvard Advocate». Advocate – здесь скорее «апологет», «приверженец». Уже упоминался сатирический «Harvard Lampoon». Выходила также ежедневная газета «Harvard Crimson». «Сrimson» – официальный цвет университета, «гарвардский малиновый». Все эти издания, основанные в XIX веке, существуют и поныне. Другие, например, «Harvard Illustrated Magazine» и «Harvard Monthly», «скончались» после Первой мировой. Все они печатали студенческие стихи, в большинстве безнадежно традиционные…
Студенты Гарварда обладали определенной свободой при выборе курсов. В юмористическом рассказе, напечатанном в «Harvard Advocate», студент по имени Голдкостидес (от Gold Coast – «золотой берег») выбирал исключительно те, которые читались с 10 до 12 утра. В другой заметке рассказывалось о первокурснике, который купил собрание сочинений Мопассана в обложках от Стивенсона, чтобы не смущать родителей…
Среди профессоров на первом курсе были весьма яркие и популярные, но разве это когда-нибудь спасало студента от неудач? Барретт Венделл и Ле Барон Рассел Бриггс с блеском вели семестровый курс по истории английской литературы. Т. С. Элиот вспоминал: «Профессор Бриггс часто читал первокурсникам, красиво и с большим выражением, стихи Донна. Я уже забыл, что он говорил о Донне как о поэте; но я знаю, что бы он ни сказал, его собственные слова и цитаты оказались досточными, чтобы побудить к самостоятельному чтению по крайней мере одного первокурсника, который уже успел впитать в себя драматургов елизаветинской эпохи, но не подошел еще по-настоящему к метафизическим поэтам»[50].
Том получил А у Бриггса, но этого было недостаточно, чтобы сдать первую сессию. По ряду предметов он получил D – самую низкую оценку. Одним из провальных для него оказался курс греческой литературы (греческий провалил и карикатурный Голдкостидес), хотя это был, в сущности, расширенный вариант того, что он изучал в школе. Получил он D и по средневековой истории, хотя в школе увлекался легендами артуровского цикла и сам сочинял стихи и прозу на средневековые темы. Менее удивительно, что он получил низкие оценки по конституционному праву и нелюбимому им немецкому языку, но провал по этим предметам только усугублял положение.
В начале декабря заместитель декана Э. Г. Уэллс написал отцу Тома, что «оценки Томаса в ноябре были настолько неудовлетворительны, что административный совет назначает ему испытательный срок…». Письмо заканчивалось грозным предупреждением – если оценки существенно не улучшатся, Том может быть отчислен без дальнеших формальностей[51].
Ответ не заставил себя ждать. Г. У. Элиот приводил некоторые оправдания для сына: «Наставники в колледже согласились с выбором предметов, сделанным Томом, требовавшим большого дополнительного чтения», но подчеркивал, что Том «глубоко озабочен» и что «на каникулах его ожидает серьезный разговор»[52].
Ближе к Рождеству Том поездом отправился в Сент-Луис и после «серьезного разговора» в начале 1907 года вернулся в Гарвард.
4За ум Том взялся, но не следует думать, что в результате он превратился в блестящего студента. Все было сложнее.
Он, несомненно, обладал чувством цели. Это чувство вполне может существовать в отсутствие ясной цели, поскольку опирается на пример предков, у которых такая цель была. И чувством долга – опять-таки по их примеру. Во втором семестре ему удалось отойти от опасной черты. Годовая оценка по греческому поднялась до В, по средневековой истории, конституционному праву и немецкому оценки удалось исправить на С. Администрация учла эти усилия и убрала его фамилию из списка кандидатов на отчисление.
Тогда же, в феврале, Том попытался войти в команду по гребле. Его фамилия появилась в списке кандидатов, опубликованном в «Harvard Crimson». Это был единственный вид спорта, где у него имелся некоторый опыт, но в команду его не взяли – возможно, из-за хрупкого телосложения при высоком росте, а может, зная что-то о его физических ограничениях.
В дальнейшем в Гарварде он все-таки занимался греблей, но в одиночку, а летом в Истерн-Пойнт ходил под парусом. Навещали его там и университетские знакомые. Родители разрешали ему покидать Истерн-Пойнт вместе с ними на несколько дней – и он иногда ходил до самой канадской границы, а однажды с двумя однокурсниками из-за шторма провел пару дней на маленьком островке, питаясь исключительно омарами.
И все же весь первый год в Гарварде Том, как он не раз признавал в будущем, в основном бил баклуши. Едва ли в эти годы он чувствовал себя особо религиозным – скорее стремился отвернуться от слишком упрощенной родительской веры. Силу противоречий, неразрешимых в земной жизни, хорошо понимали отцы церкви, но от них всячески пытались избавиться унитарианцы, во всем искавшие логически безупречной ясности.
Джон Донн, поэт, стихи которого с таким увлечением читал Том, противоречий не избегал – скорее наоборот. Том едва ли в это время задумывался о глубоких парадоксах веры, но на фоне довольно бледной и подражательной американской поэзии начала ХХ века стихи Донна выглядели прорывом в иное измерение:
Взгляни и рассуди: вот блошкаКуснула, крови выпила немножко,Сперва – моей, потом – твоей,И наша кровь перемешалась в ней.Какое в этом прегрешенье?Бесчестье разве иль кровосмешенье?[53]После летних каникул Том переехал на 22 Russell Hall, оставаясь в пределах «золотого берега». Теперь его соседями стали Говард Моррис и Джон Робинсон, все трое договорились поселиться совместно, зная друг друга по Milton Academy. Ни Моррис, ни Робинсон не отличались ярко выраженными литературными интересами, но Тома это устраивало.
Знакомые, разделявшие интерес к литературе, у него тоже появились, но не из числа соседей. Это были Конрад Эйкен и Уильям Тинком-Фернандес. «Тинк», на семь лет старше Тома, был ярким примером гарвардского космополитизма – он родился в Индии, отец его был англо-португальского происхождения, а мать – настоящая индуска, «хинди». Жил он в Нью-Йорке и приезжал в Гарвард только на занятия, поэтому старался записываться лишь на лекции, читавшиеся по вторникам и четвергам, подобно вымышленному Голдкостидесу.
Робинсон был яхтсменом-энтузиастом. Рослый, тяжелый Моррис считался легким в общении, любил хорошо поесть, выпить и послушать музыку, но мало интересовался литературой. После Гарварда он стал брокером на Уолл-стрит. Позже он взял в свадебное путешествие подаренный автором экземпляр «Бесплодной земли»[54], поэмы, сделавшей Элиота знаменитым, объявил «чушью» и выкинул из окна поезда. Тем не менее дружбу с ним Элиот ценил и переписывался с Моррисом до его смерти в 1954 году[55].
Важной стороной гарвардской социальной жизни являлись клубы, и Том вступил сразу в несколько. К слову, в студенческом Гарварде, в отличие от Бостона, действовал «сухой закон», но он не распространялся на клубы. Почти сразу он стал членом Southern Club – ведь Сент-Луис это почти Юг. В начале второго курса его приняли в элитный Digamma (это название одной из архаических греческих букв, «двойной гаммы»). Незадолго до получения диплома он вступил в Stilus Club и Signet Society – их названия подчеркивали интерес к литературе. Все эти клубы были чисто мужскими.
В Southern Club, как позже вспоминал сам Элиот, «в основном дулись в покер и чертовски много пили». Это могло быть одной из причин провалов Тома на первом курсе. В Digamma состояло много спортсменов и требовалось проходить секретный ритуал инициации. Товарищами Тома по клубу были Ван Вик Брукс, в будущем – литературный критик и историк литературы, Гарольд Петерс, увлекавшийся парусным спортом – это с ним Тому пришлось питаться омарами на острове, – и многие другие, например его второй сосед Робинсон и Леон Литтл, также энтузиасты хождения под парусом. Всего с курса Тома в Digamma вступило 17 человек. В 1908/1909 году Тома избрали казначеем клуба. По воспоминаниям Литтла, обязанности казначея вызывали у Тома отвращение, но опыт пригодился, когда позже ему пришлось работать в банке.