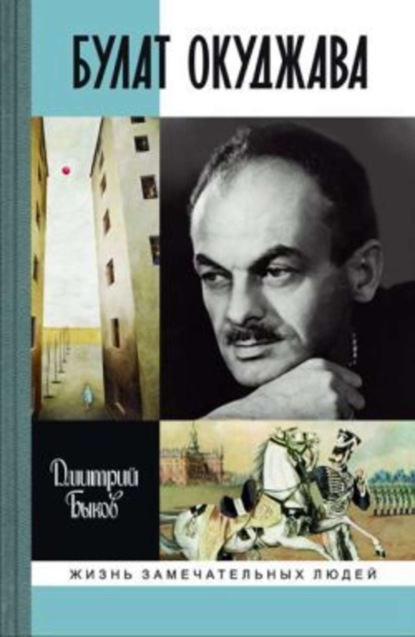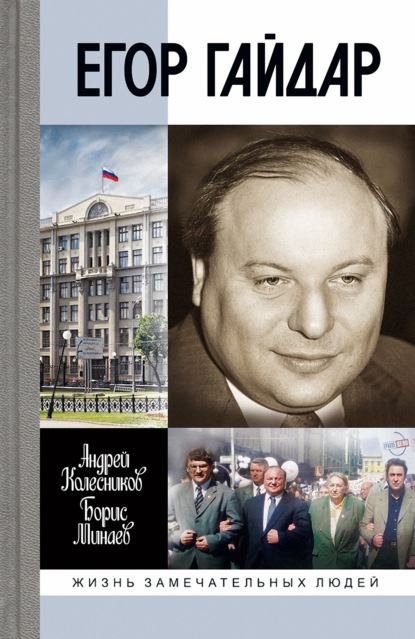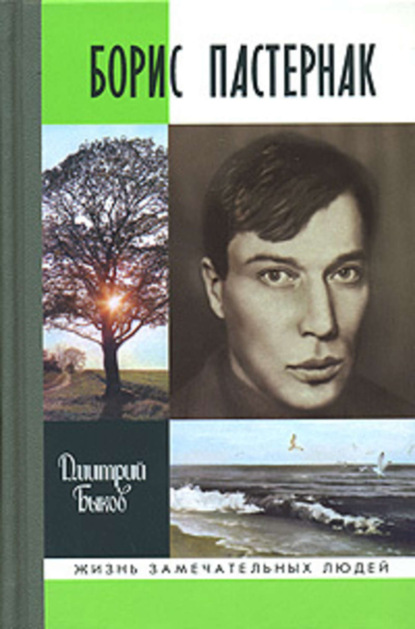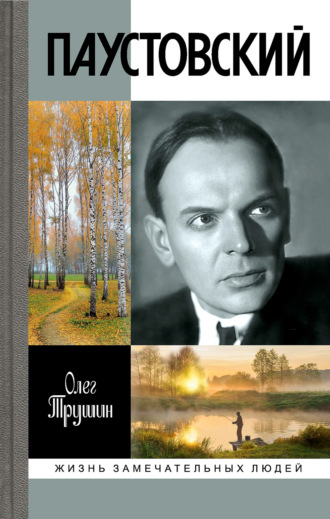
Полная версия
Паустовский. Растворивший время
В повести «Далёкие годы» Паустовский не пожелал указать реальный год своего поступления в гимназию. А это 1904-й.
По всей видимости, он просто не пожелал вдаваться в подробности своего гимназического прошлого, обойдя эту «правду» стороной, не желая тем самым делать акцент на своём «провале» при первом поступлении в гимназию.
Мальчиков принимали в гимназию с десяти лет, в подготовительный класс – с девяти. Общий срок обучения был восьмилетним. Паустовский умело вводит в текст повести «Далёкие годы» главу «Кишата», в которой повествует о своём якобы поступлении в подготовительный класс, в котором в реальности вовсе не учился. Годом поступления в гимназию он указывает 1902-й, когда ему действительно исполнилось десять лет.
Этот «манёвр» с годами поступления не повлёк в итоге особых разночтений в жизнеописании писателя, однако сделал полезное дело – несколько уравновесил временнóй отрезок его биографии с предполагаемой реальностью и той, которая, по сути, произошла. Для Паустовского это был вызов времени и возможность вырваться из его плена.
На этот казус «неуравновешенности» лет гимназической поры Паустовского обратили внимание и читатели. Так, Виктор Тимофеевич Семейкин из Краснодара после прочтения повести «Далёкие годы» 21 августа 1957 года напишет Паустовскому:
«И вот в 1-ой ч. (“Далёкие годы”) мне бросилась в глаза некоторая несообразность хронологического порядка. В этой автобиографической повести Вы пишете о себе (в гл. “Кишата”), что в 1902 г. Вы поступили в подготовительный класс Киевской гимназии. Получается, Вы в ней всего [учились], очевидно, 9 лет. (Вы нигде не говорите о том, что Вы оставались на 2-й год, и фамилии Ваших школьных товарищей сопутствуют Вам до окончания гимназии.) Следовательно, Вы должны были закончить гимназию весной 1911 г. Так сначала и получается у Вас. В гл. “Первая заповедь”… Вы, рассказывая о ноябрьских днях 1910 г., когда умер Л. Н. Толстой, замечаете здесь, что “это было в восьмом классе”…»15
И автор письма был аргументированно точен!
Первая киевская гимназия с момента своего основания занимала одно из лидирующих положений среди учебных заведений города, и быть её воспитанником, и уж тем более выпускником, было и почётно, и престижно.
Преобразованная по высочайшему указу императора Александра I от 5 ноября 1809 года из Главного народного пятиклассного мужского училища и торжественно открытая (изначально в здании на Подоле) она была приравнена к высшему учебному заведению.
Государь-император Николай II, посетивший Первую киевскую гимназию в сентябре 1911 года (якобы, проходя мимо выстроившихся гимназистов, он отметил среди них и Костю Паустовского: «Он рассеянно посмотрел на меня, привычно улыбнулся одними глазами и спросил: – Как ваша фамилия? Я ответил. – Вы малоросс? – спросил Николай. – Да, ваше величество, – ответил я», – так описана Паустовским та самая встреча), не обидел гимназию и особым распоряжением даровал ей новое название – Императорская Александровская гимназия[2]. Именно в таком статусе она и просуществовала до 1917 года, в котором её закрыли.
Николай Владимирович Шмигельский, обучавшийся в гимназии позже Паустовского на четыре года, вспоминает о ней так:
«Дисциплина в гимназии вообще-то держалась. Был карцер. Он размещался в католическом классе на третьем этаже. <…> В актовом зале висел большой парадный портрет Николая II работы известного киевского живописца Пимоненко. В проёмах окон – портреты Николая I и Александра II, но уже меньших размеров. Отдельно портрет Петра. Почему-то в кольчуге. Под ним стеклянный параллелепипед, крышку венчал орёл, а внутри лежал петровский “Табель о рангах”. Хорошо помню занавес, выполненный в билибинском стиле: богатыри, крупные подсолнухи…
В гимназии было четыре оркестра: симфонический, балалаечный, мандолинистов и духовой. <…>
Гимназия славилась своими библиотеками. Кроме общей, была ещё библиотека географическая, историческая и ещё какая-то.
Во дворе гимназии – вольер-зверинец: лось, волки, лисица, даже медведь. Потом вместо них появились чучела. В этом же дворе, у чугунной ограды возвышались штабеля дров. Гимназия имела центральное отопление со своей котельной в подвале, так что штабеля красовались круглый год. <…>
Выпускались гимназией литературные сборники “Молодые побеги”. <…>
Во время I-й Мировой войны в крыльях гимназии разместили госпиталь»16.
Первая киевская гимназия по тем временам действительно давала блестящее образование как в области изучения общественных, так и естественных наук. История, география, физика, языки – французский и латынь, немецкий и старославянский… курс рисования и каллиграфии… Преподавание предметов шло в ногу со временем, и все новаторства в области наук непременно отзывались в учебном процессе. Гимназисты посещали музеи и театры, что своего рода было весомым дополнением к учебному процессу. Штудировали гимназисты и Закон Божий, являвшийся главным предметом на всех курсах обучения и без хорошего знания которого нельзя было быть зачисленным на обучение.
За обучение в гимназии платили. Платили по-разному, в зависимости от класса обучения. И порой эта плата доходила до «катеньки», как тогда душевно называли серое «полотно» сторублёвой купюры, на которой красовалось пышное изображение Екатерины Великой.
Случалось, что плату за учёбу своих воспитанников принимала на себя и сама гимназия, и в таком случае гимназист полностью освобождался от какого-либо бремени оплаты за обучение. И такое бывало довольно часто. Так на определённом этапе пребывания в гимназии, и об этом ещё будет сказано, случится и с Костей Паустовским.
В 1903 году провалив вступительные испытания в гимназию, одиннадцатилетний Костя Паустовский, так и не пройдя обучения в подготовительном классе, следующим годом предпринимает весьма отчаянную попытку вновь поступить в гимназию, причём сразу на второй курс.
Литературовед Леонид Фёдорович Хинкулов в своих исследованиях указывает на документ – прошение Георгия Максимовича Паустовского в адрес попечителя Киевского учебного округа действительного статского советника Владимира Ивановича Беляева о возможности принятия сына Константина в первый класс гимназии в 1904 году, в том случае если тот не сдаст вступительные испытания во второй класс:
«Мой сын Константин, которому в наступающем мае исполняется 12 лет, – по несоответствию его возраста условиям поступления в первый класс, – готовится к вступительному испытанию во второй класс министерских гимназий…
Я обращаюсь с ходатайством к Вашему превосходительству с покорнейшей просьбой разрешить принять его в первый класс Первой киевской гимназии, в случае если он, при испытании во второй класс, не покажет необходимых познаний.
Апреля 19 дня 1904 года. Адрес: Святославская ул., Старо-Киевского участка, № 9.
Георгий Паустовский»17.Со стороны Георгия Максимовича это был весьма отчаянный шаг, так сказать последний выброс «спасательного круга», так как уже две попытки поступления Косте не удались, и с мечтой начать обучаться в гимназии можно было бы попрощаться.
Но, к счастью, всё сложилось благополучно.
20 августа 1904 года решением педагогического совета гимназии «по конкурсу отметок» Костя Паустовский был зачислен в первый класс. Прошение Георгия Максимовича, видимо, всё же возымело успех и Костю, освободив от экзаменационных испытаний во второй класс, допустили к таковым, но в первый, где он показал блестящие знания – «отлично» по Закону Божьему и русскому языку и «хорошо» по арифметике.
1904 год отметился в жизни Константина Паустовского ещё одним событием, о котором он будет помнить всю жизнь.
2 июля в Баденвейлере в Германии и, как тогда писала официальная пресса, «без агонии… по причине бугорчатки лёгких», на сорок пятом году жизни умер Чехов.
Весть о смерти Чехова была потрясением для семьи Паустовских, и когда она пришла в их дом, Георгий Максимович был на рыбалке. Сообщить отцу о кончине Антона Павловича пришлось Косте. А через некоторое время в Москву к гробу Чехова отправится корзина с полевыми цветами, собранными Костей Паустовским вместе с матерью. Корзину полевых цветов для Чехова увезёт в Москву близкий друг семьи Паустовских, специально отправившийся в Первопрестольную на похороны писателя.
Похороны Чехова состоялись 9 июля на Новодевичьем кладбище. Могила, как сообщалось позже в газетах, «была уложена внутри цветами и зеленью». И среди этого цветочного хаоса был букет полевых цветов от Кости Паустовского.
Но вернёмся к гимназической поре Паустовского, светлому и очень ревнивому во времени периоду жизни нашего героя, в котором переплелось всё – детство и взросление, потеря семьи и обретение ранней самостоятельности. И тем не менее это было счастливое, а может быть и даже самое счастливое время в его жизни, ещё не обожжённой трагедиями войн, хаосом революций, временем, когда на смену одним идеалам приходили другие и одна за другой накатывали волны новой эпохи, поглощая под собой миллионы жизней соотечественников его времени.
Первая киевская гимназия в судьбе Константина Паустовского явилась чрезвычайным явлением. И дело даже не в том, что он стал её выпускником, а в том, что именно в её стенах Паустовский сформировался как литератор. Именно здесь он впитал в себя уважение к слову как некой Божественной тайне, перед которой благоговел всю жизнь.
Уже спустя годы, признаваясь читателям о роли гимназии в собственной судьбе, Паустовский искренно скажет, что именно в ней он познал чувство прекрасного, что наполняло его естество «гордостью, сознанием силы человеческого духа и искусства».
«Преподавательский состав гимназии был блестящий, – вспоминает Николай Шмигельский. – Историк Василий Клягин – якобинец, влюблённый во Французскую революцию… <…>
Литератор Тростянский Митрофан Иванович, пушкинского “Онегина” знал наизусть. <…> Всегда приходил в чёрной визитке, форменного сюртука не признавал и никогда его не надевал.
Владимир Фаддеевич Субоч – латинист. <…>
Латынь вёл ещё и чех Поспишиль. <…>
Бодянский читал в подготовительных классах историю Руси. По тоненькому учебнику. Какая-то у него была своя методика: надо было всё время что-нибудь вычёркивать или дописывать. Для лучшего запоминания, как он говорил»18.
Но среди преподавателей гимназии особо нужно выделить фигуру доцента Селихановича, преподававшего литературу и психологию и внешне очень похожего «на поэта Брюсова».
Удивительно, но образ Селихановича, описанный Паустовским в повести «Далёкие годы», есть своего рода зеркальное отображение его самого, естественно, в том смысле, когда мы говорим не о внешнем сходстве, а об общности взглядов и вкусов. На эту мысль наталкивает сам Константин Георгиевич. Селиханович «ходил в чёрном, застёгнутом наглухо штатском сюртуке» и «был человек мягкий и талантливый»[3].
И только благодаря описанию отношения Селихановича к литературе начинаешь понимать, какой душевной красоты и щедрости был этот человек, какой свет знаний нёс он своим ученикам, являясь для них больше чем центром «литературной вселенной». Через любовь к литературе он выражал себя самого.
Масштаб тех знаний, которыми обладал Селиханович, был, по всей видимости, внушительным. И Паустовский об этом говорит прямо:
«[Селиханович] открыл нам эпоху Возрождения, европейскую философию XIX века, сказки Андерсена (именно творчество Андерсена сыграет в творчестве Паустовского особую роль, и, как он сам признаётся в очерке «Сказочник», научит «верить в победу солнца над мраком и доброго человеческого сердца над злом», и это станет своего рода заповедью, определённым «послушанием» всего творчества Константина Паустовского». – О. Т.).
У Селихановича был редкий дар живописного изложения. Самые сложные философские построения в его пересказе становились понятными, стройными и вызывали восхищение широтой человеческого разума.
<…> Мы пристально проследили жизнь тех людей, кому были обязаны познанием своей страны и мира и чувством прекрасного, – жизнь Пушкина, Лермонтова, Толстого, Герцена, Рылеева, Чехова, Диккенса, Бальзака и ещё многих лучших людей человечества. Это наполняло нас гордостью, сознанием силы человеческого духа и искусства.
Попутно Селиханович учил нас и неожиданным вещам – вежливости и даже деликатности. Иногда он задавал нам загадки»19.
Ко всему тому Селиханович в гимназии вёл ещё и литературный кружок. Посещал занятия кружка и Костя Паустовский.
По всей видимости, Селиханович был одним из немногих преподавателей, который знал о страстном желании Паустовского стать писателем:
«Однажды он остановил меня в коридоре и сказал:
– Приходите завтра на лекцию Бальмонта. Обязательно: вы хотите быть прозаиком, – значит, вам нужно хорошо знать поэзию»20.
Вряд ли этот разговор Селихановича с гимназистом Костей Паустовским есть всего лишь беллетристический приём писателя Паустовского. Верится, что так оно и было на самом деле.
Паустовский нигде и ни при каких обстоятельствах не говорил о Селихановиче как о своём первом наставнике в делах литературных, но вполне можно предположить, что первые рассказы, написанные им ещё в гимназии, были созданы в какой-то степени под влиянием Александра Брониславовича.
Селиханович «подарил» Паустовскому не только модель восприятия литературы в целом и ту интонацию, с которой можно было говорить о ней, но и задал тот правильный вектор в творчестве, которому Константин Георгиевич останется верен всю свою жизнь. В этом и было светлое солнце его лирической прозы.
Долгое время считалось, что след Селихановича в биографии Паустовского потерян с переездом последнего в Москву в 1914 году. Но это не так.
Селиханович прожил долгую жизнь и успел застать своего ученика не только в литературных мэтрах, но и разделить с ним шестое десятилетие XX века, которое для них обоих станет последним в жизни.
22 января 1961 года профессор Александр Николаевич Волковский, проживавший в Москве на улице 25 Октября, 4, напишет Паустовскому письмо следующего содержания:
«Глубокоуважаемый Константин Георгиевич,решил написать Вам о Вашем учителе по Киевской I-й гимназии Селихановиче Александре Брониславовиче.
Он жив, но после инсульта правая рука и правая нога работают плохо. Сознание, речь – ясные.
Живёт он с женой – Натальей Алексеевной в Пятигорске, по Лермонтовской ул. д. 11, кв. 12.
Года два назад он оставил работу в Пятигорском педагогическом институте, где был профессором. Лекции его были интересны, вдохновенны. Ал-др Бронис. подготовил целую группу аспирантов и научных работников. Мы с ним большие друзья, я очень его уважаю и люблю как редчайшего по своему идейному и моральному облику человека.
Весной прошлого года мы виделись в Пятигорске.
Он очень много говорил о Вас. На днях получил от него письмо. Если бы Вы ему написали, надолго подняли бы его настроение. Он ответит, конечно, Вам (пишет под его диктовку его жена). Желаю Вам, Константин Георгиевич, душевной бодрости и творческих сил на долгие годы»21.
По всей видимости, узнав от самого Селихановича о том, что Паустовский ему так и не написал, Волковский, понимая, что Константин Георгиевич по каким-то обстоятельствам просто не смог получить его письма, вторично, и последний раз, обращается к Паустовскому с просьбой, чтобы тот написал своему учителю письмо. Из письма Волковского Паустовскому 9 марта 1961 года:
«Сейчас я узнал Ваш московский адрес. Было бы по-человечески хорошо, если бы Вы нашли время написать Ал. Бр. Селихановичу. Ему уже более 80 л.»22.
По всей видимости, Селиханович всё же очень ждал письма от своего именитого ученика, но, вероятнее всего, так и не дождался. Сам же Александр Брониславович отчего-то написать Паустовскому так и не решился.
С чем же была связана «осторожность» Паустовского в отправке письма Селихановичу, сказать сложно. Возможно, это была вовсе и не «осторожность» – Паустовский в эти годы уже серьёзно болел и собственный недуг не дал возможности наладить общение.
Но на этом история Паустовский – Селиханович не закончилась.
Спустя три года Паустовскому вновь напомнят о его учителе.
Ксения Колобова из Пятигорска, надеясь на авторитетное вмешательство Паустовского в судьбу Селихановича, своим письмом привлечёт к нему внимание со стороны бывших сослуживцев и учеников, и тому будет оказана помощь. 20 апреля 1964 года она напишет Паустовскому:
«Уже в течение нескольких лет А. Б. Селиханович лежит частично парализованный. В течение последних двух месяцев он был на грани смерти и, если сейчас остался жив, то только благодаря беспримерному героизму его жены – простой русской и уже старой женщины.
Его товарищи по работе в Педагогич. институте Пятигорска забросили его уже года 4 тому назад; никто из его бывших учеников, друзей… больше его даже не навещает. <…>
1. Напишите в Пед. институт Пятигорска с запросом о здоровье А. Б. Селихановича и с просьбой регулярно извещать Вас о его состоянии.
2. Если у Вас найдётся хоть минута свободного времени, написать А. Б. Селихановичу хотя бы страницу привета»23.
Но Паустовский промолчал и на этот раз. Почему? Сказать трудно.
Легко ли Косте Паустовскому, гимназисту-романтику, давалась учёба? Полюбил ли он ту казённую гимназическую обстановку, в которой очутился не по своей воле, а по необходимости? Выделялся ли прилежностью в учении или же наоборот? Торопил ли он гимназические годы, ворвавшиеся в его беззаботное детство?
О том, каким гимназистом был Костя Паустовский, доподлинных сведений нет. Но эта страница его биографии вовсе не тайна за семью печатями. Просто к тому моменту, когда среди литературоведов интерес к биографии Паустовского созрел, в живых от его гимназических однокашников практически никого не осталось. 3 сентября 1962 года в ответном письме Борису Човплянскому, в прошлом однокласснику по учёбе в гимназии, Паустовский, напишет:
«Нас осталось в живых (по моим сведениям) всего шесть человек – ты, Боремович… Серёжа Жданович… Шпаковский… Георгий Суровцев… Вот и всё, а шестой – я… А остальных нет. Шмуклер умер в Ленинграде во время блокады, Володя Головченко – умер. Станишевский погиб на войне. Об остальных ничего не знаю».
Но Паустовский слукавил. К этому времени здравствовал ещё один из его однокашников по гимназии, сын священника, и по возрасту двумя годами его младше – Сергей Петрович Рыбаковский, который проживал в городе Яшалте, в Калмыкии. Прочитав «Далёкие годы», Рыбаковский написал Паустовскому письмо, в котором напомнил о том, что того в классе звали «каторжанином», и подметил:
«Вы, помнится, сидели на первой парте с Шмуклером Эммой. Такой изящный был смуглый паренёк»24.
Без всякого сомнения, в искренности и правдивости воспоминаний Рыбаковского вряд ли можно усомниться. И упоминание в письме гимназического прозвища Паустовского как нельзя ярко и сочно характеризует его отношение не только к учебе, но и ко всему «скованному» процессу пребывания в гимназии, которое приходилось преодолевать.
Занимательно, но в своей автобиографии 1937 года Паустовский о своём обучении в гимназии напишет так:
«Несколько раз меня исключали из гимназии – за невзнос платы (с пятого класса я платил сам, зарабатывал уроками), за неподходящий образ мыслей, даже за то, что в классном сочинении я привел слова Пушкина о Державине: “Подлость Державина для меня непонятна”. В гимназии я учился средне, всё время читал, читал запоем, и книги открыли мне мир сверкающий и печальный. От чтения и множества мыслей я глох, слеп, забывал есть и не спал по ночам».
Ну что же, написано «искренне» и «правдиво» в духе времени. А что было делать?! Тогда написать по-другому было просто невозможно, и с этим нельзя не согласиться.
Если взглянуть на оценки Паустовского в аттестате зрелости, полученном по окончании гимназии, то он не так уж и плох и даже более того, весьма пригляден – всего лишь одна «тройка», заработанная по физике, среди всей густоты оценок «отлично» и «хорошо» кажется на этом фоне вполне неуместной и даже несколько вычурной.
Одним словом, Костя Паустовский учился хорошо. «Отлично» по русскому языку и словесности, философии и истории… Даже по «нелюбимому» Закону Божию, обучение которому было «мученическим» (радовали лишь «великопостные каникулы»), у него оценка – «отлично». От природы целеустремлённый и крайне усидчивый, Костя очень много читал. Чтение было не времяпровождением, а потребностью, тем радостным занятием, любовь к которому он впитал в себя с малолетства. И чем взрослее он становился, всё настойчивее и настойчивее овладевала им тяга к чтению, географии, природе, познанию мира.
И первое в жизни Кости Паустовского большое путешествие, совершённое в августе 1903 года с отцом в Одессу, к берегам Чёрного моря, окажет на него неизгладимое впечатление. Второе в Тавриду – в августе 1906 года – ещё больше закрепит это впечатление. Он увидит Ялту и Одессу, Симферополь и Севастополь, Алушту и далёкие Судакские горы, таящиеся в глубине горизонта и больше похожие на обманчивый мираж. Перед ним во всём величии предстанет гора Кастель, вершины Северная и Южная Демерджи, у подножия которых раскинулись черешневые сады и виноградники, лавандовые поля и заросли бесконечно цветущей всё лето колючей дикой розы и, конечно же, Орлиная гора в Алуште, почти в самом центре города, совсем недалеко от которой семья Паустовских снимет дом. А ещё Костя будет заворожён говорливыми горными реками, на которых играли водным потоком шумные водопады. Он будет вдыхать горьковато-пряный, пропитанный ароматом смол, перемешанный с солёным бризом Чёрного моря запах вековых кипарисов и можжевельников и гулять по витиеватым тропкам, многие из которых, извиваясь по склонам змейкой на измождённом зноем суглинке, будут непременно сбегать к большой воде – морю, такому манящему, далёкому и близкому, такому разному в лучах восходящего и закатного солнца, тишайшему и штормовому…
«Прививка морем» тогда сработает безотказно. «И море вошло в меня, – скажет Паустовский в «Далёких годах», – как входит в память великолепный, но не очень ясный сон»25.
«Ещё мгновение – и она позвала бы его»: распад семьи
1906 год принёс Косте не только радость семейной поездки в Тавриду, но и массу глубоких потрясений.
Почти перед самым отъездом из Алушты, в конце первой половины августа, Костя тяжело заболел. Врачебный диагноз был неутешительным: правосторонний экссудативный плеврит. По настоянию докторов нужно было оставаться в Алуште и лечиться, а это означало, что пропуск начала учебного года в гимназии, который начинался как раз с 18 августа, был неизбежен. В Алуште он пробыл до конца сентября.
Хворая в Алуште плевритом, Костя Паустовский ещё не знал, что судьба в этот год уготовит ему ещё не один «подарок», и первым из них будет переезд из дома на Никольско-Ботанической в полутёмную, холодную квартиру полуподвального цокольного этажа дома 9 по Ярославскому Валу. Из-за нехватки уличного света в квартире рано вечерело, и ночной мрак держался до первых солнечных лучей.
Переезд Паустовских в столь худшие условия был вынужденным. Георгий Максимович расстался с работой, и прежняя квартира в доходном доме, числящаяся за управлением Киево-Полтавской железной дороги, оказалась не по карману.
Возможно, что именно этот переезд и сыграл решающую роль в семейном разладе. Бранные скандалы между родителями, жестокие упрёки супругу, не способному материально обеспечить семью… Что ещё могла излить женщина, оставшаяся в каком-то смысле один на один с судьбой? А ещё – всё та же противоположность натур.
Осенью 1906 года Георгий Максимович ушёл из дома и поселился в Городищах.
И супруга Григория Максимовича, и старшие сыновья не приняли его ухода.
«Их точно прорвало. Они дружно клеймили Георгия Максимовича и были неистощимы в предъявлении ему всё новых и новых упрёков. Что можно ждать от человека, который легкомысленно пренебрёг долгом супруга и родителя и забывает о святых обязанностях перед теми, о ком ему положено печься?»26
Насколько содержательны и объективны были эти упрёки, ныне сказать сложно. Ясно лишь одно – радуга эмоционального восприятия ухода отца перевесила понимание истинного разлада в семье и её распада.
И всё же, вернись Григорий Максимович в семью, он был бы безапелляционно принят. Почему? И об этом говорит сам Паустовский в «Книге скитаний»:
«Моя мать, когда разошлась с отцом после того, как она осудила его за легкомыслие и прокляла за свою разбитую жизнь и неизбежно горестное будущее своих детей, разрыдалась, когда увидела сгорбленную, виноватую спину уходящего навеки отца.
В спине этой было столько беспомощности, что мама не могла не разрыдаться. Ещё мгновение – и она позвала бы его, побежала бы за ним, и он бы, конечно, вернулся. Но гордость, обида, нетерпимость не позволили ей этого сделать»27.