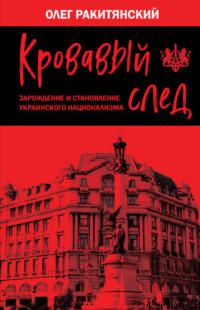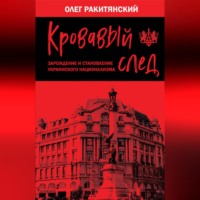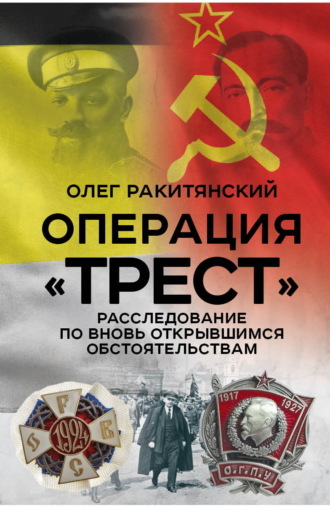
Полная версия
Операция «Трест». Расследование по вновь открывшимся обстоятельствам
О том, что А. Якушев (А.А. Фёдоров) уже к августу 1921 г. был агентом ВЧК, Владислав Михневич, а вместе с ним и автор, нисколько не сомневался, так же, как и в том, что так называемое письмо от «сестры» В.П. Страшкевич – чекистская комбинация прикрытия. Надо было легализовать приезд и встречу А. Якушева с Юрием Артамоновым. Закономерен вопрос: перед кем или чем?! Ответ: перед эстонской, польской и английской разведками. Безусловно, А. Якушев не ожидал, что в вагоне встретит Йонаса. Но легенда сработала – Й. Лид поверил, что А. Якушев якобы знает Ю. Артамонова со времени работы в лицее, где тот обучался премудростям, которые якобы с кафедры вещал Александр Александрович. А паспорт сменил, чтобы перед новыми «товарищами» по Наркомату не довлело «проклятое царское» прошлое и в целом для конспирации…
Да, А. Якушев залегендировал свою связь с Ю. Артамоновым. Тогда какова была цель встречи с Ю. Артамоновым? Если письмо о разводе (как нас уверяет Е. Незбжицкий) предназначалось мужу Варвары, то почему пан капитан не указывает его имя?! Он подспудно намекает, что это Ю. Артамонов?! Но это абсурд, ему тогда было всего 21 год! Таким образом Е. Незбжицкий что-то недоговаривает и «наводит тень на плетень», а значит, что-то знает, но скрывает. Значит, пытается кого-то выгородить, а кого-то подвести под подозрение. А почему бы не допустить мысль, что сам Е. Незбжицкий своей возможной изменой посадил «черное» пятно на «белоснежный» мундир польского офицера разведки?!
* * *Подошло время внимательно присмотреться к персоне Юрия Александровича Артамонова. Что нам о нём известно, если не прибегать к «библиотеке конгресса США»? Крайне мало по сравнению с теми материалами, которые хранятся в архивах спецслужб России и с которыми мы сможем ознакомиться только после «Второго пришествия»…[26]
Владислав нам даёт конкретное число – 31 января 1920 года, когда Ю. Артамонов как офицер запаса пришёл в свою часть за жалованьем (денежным довольствием), но оказалось, что кассовый сейф, напичканный английскими фунтами, накануне незаконно вскрыл и изъял всю наличность один из генералов Русской армии. Казнокрада удалось задержать на борту отходящего в Швецию парохода. Часть денег вернули[27]. Но вернуть прежнее уважение к своим отцам-командирам было не суждено. Ю. Артамонов в силу своего великосветского воспитания принял всё за личное оскорбление. Отчаяние и безысходность нависли над ним как свинцовые балтийские тучи. Ему реально не было на что жить. Оставалось только молиться. И ангел-хранитель Юрия Александровича не заставил себя долго упрашивать. Владея в совершенстве английским языком, Ю. Артамонов не упустил случая устроиться переводчиком в консульский отдел британского посольства в Ревеле[28].

Ю.А. Артамонов
Этот «кульбит» однополчанина так и не был принят «элитной» общиной Ревеля. «Из грязи в князи» – слухи, эмоции, завистливые проклятия. Назревал сухопутный «девятый вал» И.К. Айвазовского… Особенно среди русских беженцев, которым голод, нужда и пугающая неизвестность всё чаще заглядывали в глаза. На этом фоне Ю. Артамонов представлял оазис респектабельного штиля. Вернулись довоенные капризы жизни, аристократические привычки, этикет, дипломатические рауты, реверансы, чужие придворные лакеи – как дежавю. Судьба стала купаться в волнах Балтийского моря и омываться «золотыми» брызгами по всему телу. Юрий Александрович оказался ценным приобретением для британцев. Они доверяли ему и одновременно отчуждали своей извечной скупостью. А в нём возродилось приобретённое в молодости желание щеголять по жизни, отбирая у неё всё и сразу. Поднимая статусный уровень своего достатка, Ю. Артамонов явно не договорился с ценой.
В этой ситуации спасение не предоставляло даже возможное английское повышение жалованья. Балтика – она всегда изменчива, как нелюбимая женщина. Пришёл зюйд-вест, и шикарная жизнь нувориша из русских беженцев стала «мелеть». Казино, поклонницы и прочие прелести эмигрантского безвременья ввергли Юрия Александровича в долги. Ладно бы деньги, но потеря «лица» и репутации были мучительно невыносимы. Позор и бесчестие, как петля висельницы, раскачивались над головой, подвигая к единственно правильному решению… Достать в портовом городе револьвер – всё равно что подобрать выброшенную на берег дохлую рыбу. А укоротить жизнь Юрию согласились бы многие нищие сослуживцы. Да, те самые, которые неделями и месяцами выстаивали в очередях к советскому представительству с одним лишь молебным раскаиванием – «хоть бы умереть» на Родине. Юрий Александрович их тогда не замечал и презирал. Но за всё надо платить.
И однажды Ю. Артамонов занял очередь в консульство…
«Золотая форточка»
Что собой представляла Эстония осенью 1920 года, перед тем как стать трамплином для старта операции «Трест»? Лимитрофный осколок Российской империи после военного лихолетья содрогался в экономической агонии независимости без опыта государственного и политического строительства. Она никому была не нужна. Даже как плацдарм для возможной агрессии и деятельности иностранных разведок – предпочтение отдавалось Финляндии генерала Маннергейма. Однако. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Несчастье отнюдь не эстонское, но большевицкое. И заключалось оно в том, что Антанта[29], прежде всего в лице США, всё настойчивее намекала Москве на выполнение ею своих обещаний.
О чём конкретно шла речь?
11 ноября 1918 г. во Франции между Антантой и Германией было заключено Компьенское перемирие, положившее окончание боевых действий на Западном фронте Первой мировой войны. Германия и её союзники были нейтрализованы. Покончив с одним врагом, Антанта по инициативе Черчилля и Фоша приняла решение о широкомасштабной интервенции, призванной покончить с другим не менее опасным мировым злом – Коммунистической Россией. Помимо того что она заявила о мировой революции, то есть переделе экономического мира, она ограбила западных инвесторов на миллиарды и отказалась выплачивать компенсации за национализированные объекты промышленности и финансов, а также проценты по вкладам европейцев. В необъёмном гроссбухе «обид» Антанты отдельными пунктами значилось: предательство большевиков с заключением Брестского мира, обеспечение немцев продовольствием, промышленным сырьём, денежной контрибуцией в период боёв на Западном фронте, отказ от проведения согласованных наступательных действий против общего врага.
Если выразиться более предметно, то за «проезд в опломбированных вагонах» через Германию на «встречу» с «Великим Октябрём» Ленин и большевики по Брестскому мирному договору отдали Германии 780 000 кв. км территории бывшей Российской империи, где проживало около 56 млн человек, находилось 27 % обрабатываемой земли и 26 % железнодорожной сети, выплавлялось 73 % железа, добывалось 89 % каменного угля, производилось 90 % сахара[30].
Намерение Антанты разделаться с большевиками было ничуть не меньше, если не сказать больше, поверженной Германии. По одной причине. Страшили метастазы коммунизма (то есть национализации = передел собственности и создание новой правящей элиты), которые могли переброситься на страны Европы, что, собственно, и произошло в кайзеровской Германии, когда в конце декабря начались симптомы и потуги революции.
В январе и феврале 1919 года прошли негласные консультации между Германией, Польшей и Антантой по вопросу скрытой переброски войск в Польшу, в частности формировавшийся во Франции корпус генерала Ю. Галлера. Немцы обязались предоставить свой торговый флот и порт Данциг. Известия о планах Антанты расширить интервенцию до 100 000 солдат и офицеров привели большевиков, зажатых в «кремлёвских башнях», в революционный ступор. Разрушенный экономический потенциал страны, Гражданская война, голод, ненависть крестьянской России (80 % населения) к коммунистам – всё указывало на то, что противостоять интервенции не хватит сил, а последствия поражения будут катастрофическими для «кремлёвских мечтателей», и гильотину Французской революции разместят на «апрельском броневике»[31], с которой они и зачали революционный, кровавый хаос.
И в этом случае большевиками было принято уже апробированное на немцах решение – откупиться от Антанты (прежде всего США, должниками которой по итогам Первой мировой войны стали все страны Европы. Общий долг 15 стран Континента составил к 1919 году 15 657 633 тысячи долларов. Примерно: 50 млн долларов равно 75,2 т золота). А в качестве товара для торговли выступили: золото, промышленные концессии, природные ресурсы, уникальные мировые шедевры искусства и драгоценности ограбленной империи[32].
И тут, «внезапно», в январе 1919 г. в Нью-Йорке по адресу: 110 Вест 40-я стрит в здании «Уорлд Тауэр» открывается «Советское бюро» под руководством гражданина Германии Людвига Мартенса, соратника Ленина. Его обычно называют первым послом Советского Союза в США, а до того времени он был вице-президентом проектно-технической фирмы «Вайнберг & Познер», расположенной на Бродвее, 120. Спустя два месяца, 19 марта, Л. Мартенс направили в Госдепартамент США меморандум: «В случае возобновления торговли с Соединёнными Штатами Российское Правительство готово немедленно разместить в банках Европы и Америки золото на сумму в двести миллионов долларов (это 300 тонн золота. – О.Р.) для покрытия стоимости первых закупок»[33].
На первом этапе оферта большевиков не впечатлила деловые круги США и, несмотря на заманчивый искус и интригу завладеть «Русским золотым тельцом», желание пришлось «положить» на неопределённый срок в «сейф». А в Россию направить делегацию Красного Креста, врачи которой не удосужились научиться ходить в гражданской обуви и всё время переходили на строевой шаг. Хорошо хоть шпоры к каблукам туфель не привинтили…
Ленин и Ко в свою очередь не теряли надежду и время. Активно разрабатывался сценарий по легализации императорского золота с царским клеймением. То есть шли поиски страны, в которую можно его ввозить, переплавлять и уже под видом местной или нейтральной страны реализовывать на Западе, учитывая «золотую блокаду» вокруг РСФСР. Необходимо было «прорубить золотое окно в Европу».
Следуя заветам Петра I, рубить решили на Балтике.
Вылупившиеся на свет в 1919 году новые Балтийские лимитрофы представляли для этого особый интерес. С Литвой пришлось сразу расстаться, так как поляки не желали советского присутствия в своей вотчине, оккупировав Вильно. С Латвией не получилось по той причине, что в январе 1919 г. чекисты во главе с Петерсом, Лацисом и многими сотнями других латышей организовали государственный переворот и объявили о советизации страны. Это был явный перебор. Революционное хамство большевиков вызвало негодование в Германии, направившей свои войска в страну. В мае Советская Латвия перестала существовать.
Немцы учинили повальный разгром всех революционных структур, вынудив латышских стрелков и чекистов вновь бежать в Россию. Возможно, этим обстоятельством и был вызван спад в «красном терроре» в первой половине 19-го года в Совдепии и серьёзные поражения на фронтах Гражданской войны[34]? Правда, латыши потом с лихвой компенсировали своё временное отсутствие и горечь поражения национальной революции на населении Советской России. Уже тогда за латышами закрепился слоган: «Ищи не палача, а ищи – латыша!» Собственно, как и слово «товарищи» среди новых хозяев Российской империи. Оно было рождено в среде речных пиратов-грабителей на Волге в середине XVIII века, когда ватаги бандитов грабили купеческие корабли на пути из варяг в греки. Чтобы ободрить подельника, поднять его боевой, абордажный порыв, они подзадоривали друг друга криками не «Ура!», но призывами: «Ищи – товар!», «Товар – ищи!», «Товар – ищи!»…
Финляндия отказалась от контактов по этому вопросу и довольствовалась признанием независимости от РСФСР. Оставалась Эстония, где продолжалась война за независимость страны со стороны Антанты и эстонских частей Красной Армии. В таких условиях «рубить» было невозможно, и Москва пошла на уступки, то есть капитулировала, но не ради «мировой революции», а «золотого окна». Были упразднены красные эстонские формирования в составе Красной армии, прекращена революционная деятельность коммунистов в Эстонии, согласована граница, уступлены земли вокруг Нарвы и Ивангорода. Выплачено 11 тонн золота в компенсацию активов эстонцев, национализированных в РСФСР. Со своей стороны Эстония согласилась на разоружение частей Русской Северо-Западной армии генерала Н. Юденича[35].
2 февраля 1920 года был подписан Тартуский мирный договор. Следует отметить, что в январе Антанта формально отменила торговую блокаду России[36].
Судя по всему, большевицкую оферту достали из Нью-Йоркского сейфа на Уолл-стрите, после того как американский Красный Крест, закончив разведывательную миссию и «щёлкнув шпорами», доложил о перспективном промышленном и сырьевом потенциале советской колонии.
Это был первый мирный договор в истории РСФСР. Вскоре через «пробитое отверстие» Советская Россия вышла на мировой торговый рынок с контрабандным экспортом огромной массы императорского золота, а также награбленных и конфискованных у населения и церкви драгоценностей, предметов музейного искусства из государственных и частных собраний. Почин оказался «заразительный», революционный, и в конце августа 1920 года был заключён Рижский мирный договор между РСФСР и Латвией, который окончательно «прорубил золотую форточку».
Первые эшелоны с контрабандным драгоценностями и золотом ушли на Ревель весной 1920 года с целью последующего «отмывания» (легализации) в Стокгольме и продажи на биржах в Швеции, Германии и США. Из Казани было доставлено 199 ящиков с золотыми слитками вышей пробы, происходившими из «золотого эшелона» А.В. Колчака[37].
Как писал о своей работе в Ревеле представитель Наркомвнешторга Г.А. Соломон: «Назначив меня в Ревель, советское правительство возложило на меня обязанность снабжать актуальной валютой все наши заграничные организации, возглавляемые Красиным в Лондоне, Коппом в Берлине, Литвиновым в Копенгагене и разными специально командированными в ту или иную страну лицами (как, например, Бронштейн, брат Троцкого) для определенных закупок, а также и многочисленные тайные отделения Коминтерна, пожиравшие массу денег… (Выделено О.Р.)
Задача эта при современной ситуации была очень нелёгкая. Я имел возможность продавать золото только в Стокгольме. Конечно, стокгольмская биржа была лишь промежуточным этапом для нашего золота и в свою очередь перепродавала его (иногда, как мне говорили, для обезличивания нашего золота в интересах сокрытия его происхождения, его перетапливали в слитки («свинки») на крупных биржах, как берлинская, например. Разумеется, мы теряли от этой перепродажи, но ничего в то время нельзя было поделать…»[38].
А вот что в те дни писала местная ревельская газета Waba Maa: «Вечером 13 апреля в Нарву прибыло из Москвы золота на 9 млн ЗР, из коих 7 млн предназначены для Эстонии, согласно мирному договору, а 2 млн получит полномочный представитель РСФСР в Ревеле Гуковский (Израиль Менделевич Гуковский. – О.Р.)[39] для покупки различных товаров для Советской России. Всё золото находилось в 150 ящиках, по 60 000 рублей в каждом».
В середине июля 1920 года та же газета поместила заметку: «11 июля из Москвы в Нарву прибыл курьер Вагнер, тотчас отправившийся в Ревель. Он привёз 449 ящиков с золотом, погружённых в два вагона. Вес золота – 1832 пуда. Всё привезённое золото предназначено для платежей по закупленным в Эстонии и Западной Европе материалам»[40].
Тогда же летом эстонская газета Paevaleht сообщила: «Советское правительство из своих запасов золота уплатила Польше – 30, Эстонии – 15 и Латвии – 4 миллиона рублей золотом. В Америку вывезено золота на 25 миллионов английских фунтов. В последние дни в Ревель прибыло 1380 пудов золота (22 080 кг), которое, видимо, будет последним из посылок русского золота. Попытка собрать находящееся на руках у населения золото не дала никаких результатов».

И.М. Гуковский
Исходя из золотого паритета 1 ф. ст. = 9,453 ЗР, выходит, что к середине 1921 г. через Ревель в Америку было отправлено русского золота на 236,4 млн руб. = 183 т. Плюс «отмытое» русское золото, купленное в Европе Нью-Йорским банковским синдикатом. Итого получается не менее 300 т. За этот же период бюро Л. Мартенса заключило с деловыми кругами САСШ договоров на поставку продукции всего лишь на 200 000 долларов[41].
Куда исчезло 290 т золота? Никто не знает.
В сводках военной разведки САСШ, которая занималась валютными операциями Л. Красина (нарком внешней торговли страны и посол РСФСР в Великобритании), отмечались активные поставки золота в Нью-Йорк и Сан-Франциско. После реализации металла деньги переводились на счета некоего «Ленина». Тогда же летом 1921 года после окончания поставок золота в САСШ сам Л. Мартенс покинул Американский континент.
В этой части хотелось бы предоставить слово автору трёхтомного исторического бестселлера А.Г. Мосякину:
«…А теперь представим любопытнейший документ, обнаруженный в начале 2000-х годов в Национальном архиве США известным американским историком Ричардом Спенсом, который переслал его автору и разрешил опубликовать. Это резюме (краткое описание архивного дела) касается отчёта американской военной разведки о деятельности Л.Б. Красина и судьбе золотого запаса Российской империи. Вот что написал по сему поводу Спенс:
“Примерно в 1925 году Отдел военной разведки армии США (MID) составил список всех отчётов и файлов, имеющих отношение к Леониду Красину. Список содержит только краткие сведения о содержании документов, многие из которых с тех пор «пропали без вести». MID-файл 2347-D-27 содержит или содержал интригующий отчёт, составленный Управлением военно-морской разведки (ONI) 21 сентября 1921 г. О нём имеется резюме.
Впервые я наткнулся на это резюме около 18 лет назад, когда заказал копию предметного файла MID на Леонида Красина. Этот предметный файл содержал список и резюме всех MID документов, относящихся к Красину. Вскоре я запросил копию документа 2347-D-27, но мне сказали, что документ не найден. Я нанял частного исследователя для поиска отчёта. Они обыскали весь файл 2347-D, но отчёта опять не нашли. Поэтому я думаю, мы должны с сожалением констатировать, что он «утерян». Всё, что осталось – это резюмеˮ. Вот его искомый текст. (II.Док. 99).
“Г-н Красин, глава российского торгового представительства, прибыл в Англию и объявил о создании российского банка. В Лондоне он пролил свет на судьбу золотого запаса Российской империи. Часть его хранится в Лондоне, Париже и Стокгольме, но бóльшая часть в Нью-Йорке, хранится на имя Ленина… Названия банков в Нью-Йорке, которые держат эти деньги, можно получить в (Государственном департаменте)ˮ.
Итак, согласно приведённому документу значительная часть российского золотого запаса, вывезенного в начале 1920-х годов за границу, оказалась на валютных счетах в нью-йоркских банках, оформленных на имя Ленина[42]. Сколько именно – пока неизвестно, но мы знаем размер железнодорожной “золотой дельтыˮ (162 тонны ЗР) и можем предположить. Указанное в документе место нахождения золота (или полученной за него валюты) совпадает с признанием М.М. Литвинова, сделанным в апреле 1928 года на сессии ЦИК СССР, о том, что большая часть золота на сотни миллионов рублей, проданного им в 1921 г. за границу, нашла “своё последнее убежище в кладовых американского резервного банкаˮ. Валюта от продажи золота тоже оседала за океаном»[43].
В стране ещё не закончилась Гражданская война, стояли заводы, фабрики, транспорт, а императорское золото по указанию вождей мирового пролетариата широким потоком наполняло банки капиталистов в надежде на мировую революцию, которая якобы вернёт их опять пролетариату. По документам Наркомфина РСФСР, с ноября 1920 года по сентябрь 1921 года «товарищи» вывезли за границу золота на сумму 472,7 млн руб. – 366 т. Не считая того, что вывезли раньше и позже.
А в это время в стране, с марта 1918 года, «процветала» политика «военного коммунизма», то есть всеобщей экспроприации у населения всего: от денежных вкладов и фамильных ценностей до мешка зерна под весенний сев. И как результат этого «коммунизма» через два года в Европейской части РСФСР разразился повальный голод, который закончился не ранее урожая 1923 года, а в отдельных местностях длился до 1925 г. На этой территории проживало более 42 млн человек, жертвами бедствия стали не менее 5 млн человек[44]. Население вымирало миллионами, но ленинское правительство до лета 1921 года (пока Л. Мартнес не покинул США и не закрылась «золотая форточка») не выдало Наркомату продовольствия ни одного (!) золотого рубля на закупку продовольствия за границей[45].
Это был крах большевицкой антинародной демагогии о революции, о коммунизме. О мировой революции речь не могла быть по определению. Ограбив страну минимум на 300 т золота, разместив его на своих счетах в мировых банках (у финансовых капиталистов, врагов пролетариата), «товарищи» из Кремля вынуждены были мимикрировать перед массами с ранее озвученными лозунгами борьбы за народное счастье (без крестьян). И в то же время перейти к следующему этапу озвученной в 1919 и 1920 годах оферты, прежде всего перед США. Но при этом подразумевалось не германская аналогия с выплатой контрибуции и репарации в рамках очередного Бреста[46].
Нет! Речь шла именно об «отступной» для последующего дипломатического признания кровавого режима «товарищей – коммунистов»[47]! То есть об отказе от интервенции в Россию со стороны стран Антанты и их союзников в обмен на передачу почти всего золотого запаса Императорской России. Ни много ни мало! А именно из минимальных 852 т золота, коими располагали большевики на 7 ноября 1917 года, с учётом утрат «золота Колчака», к сентябрю 1921 г. осталось менее 57 т! То есть в период 1918–1921 годов большевицкие вожди тайно вывезли за границу не менее 480 т золота сверх всех предусмотренных выплат и трат. А с учётом проданных бриллиантов, шедевров живописи и других ценностей – около 656 т на 730 млн ЗР[48].
6 сентября 1921 года решением Политбюро РКП(б) при Совете труда и обороны была сформирована комиссия по золотому фонду («Золотая комиссия». Была ликвидирована 6 апреля 1922 года. Отчёты комиссии до сих пор засекречены). Одно из положений о комиссии обязывало все наркоматы РСФСР сдать в Государственное хранилище (Гохран) золото, драгоценные металлы и камни. 18 ноября 1921 г. Ленин пишет в ВЧК и Наркомфин: «В целях сосредоточения в одном месте всех ценностей, хранящихся сейчас в различных государственных учреждениях, предлагаю в трёхдневный срок, с момента получения сего, сдать в Гохран все ценные вещи, находящиеся ныне в распоряжении ВЧК»[49].
Чем можно объяснить персональное указание ВЧК (то есть напоминание) сдать всё золото и драгоценности в Гохран?! Только одним – ВЧК не выполнило решение Политбюро и игнорировало существование «золотой комиссии», которая к тому же просуществовала всего 8 месяцев. И надо думать, что была ликвидирована по «просьбе» уже ГПУ (правопреемнице ВЧК). И всё же создание «золотой комиссии», как представляется, явилось отправной точкой для ВЧК, как реорганизовать работу при условиях её существования и жёсткого лимитирования «оперативного» финансирования.
Куда же исчезли 480 т золота Российской империи?
Оказывается, для американской прессы это не составляло тайны.
«…24 апреля 1921 г. В.И. Ленин написал записку в ВЧК: «Совершенно секретно. И. Уншлихту и Бокию! Это безобразие, а не работа! Так работать нельзя. Полюбуйтесь, что там пишут. Немедленно найдите, если потребуется, вместе с Наркомфином и тов. Баша утечку. Ввиду секретности бумаги прошу немедленно мне вернуть ее вместе с прилагаемым и вашим мнением. Пред. СНК Ленин». «Прилагаемым» была вырезка из газеты «New York Times» с уже сделанным (лично Лениным, судя по почерку) переводом: «Целью “рабочихˮ лидеров большевицкой России, видимо, является маниакальное желание стать вторыми Гарун-аль-Рашидами с той лишь разницей, что легендарный калиф держал свои сокровища в подвалах принадлежащего ему дворца в Багдаде, в то время как большевики, напротив, предпочитают хранить свои богатства в банках Европы и Америки. Только за минувший год нам стало известно, на счета большевицких лидеров поступило от Троцкого – 11 млн долларов в один только банк САСШ и 90 млн франков в Швейцарский банк. От Зиновьева – 80 млн швейц. франков в Швейцарский банк. От Урицкого 85 млн швейц. франков в Швейцарский банк. От Дзержинского – 80 млн швейц. франков. От Ганецкого – 60 млн швейц. франков и 10 млн долларов САСШ. От Ленина – 75 млн швейц. франков…»[50].
После всего изложенного закономерен хотя бы вопрос о контрразведке. Откуда ревельские газеты знали точное количество «свинок», вес, отправителя, получателя, фасовщика и т. д.?! Наиболее вероятно, что утечка конфиденциальной информации происходила из Советского представительства во главе с Израилем Менделевичем Гуковским. Вопросами безопасности представительства занимался сотрудник ВЧК – Штеннингер.