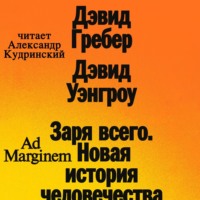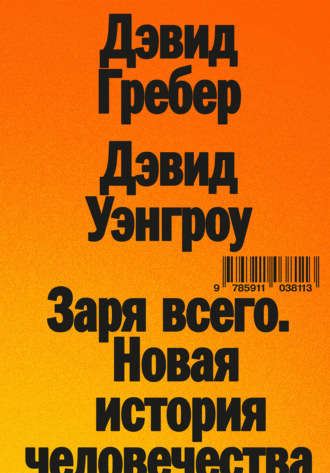
Полная версия
Заря всего. Новая история человечества
Тяжело спорить с числами, но любой статистик скажет вам, что статистика хороша настолько, насколько хороши те предпосылки, из которых она исходит. Действительно ли «западная цивилизация» улучшила жизнь человечества? В конечном счете всё сводится к вопросу о том, как измерить людское счастье, а сделать это очень трудно. Единственный надежный способ определить, действительно ли жизнь стала более приятной, полноценной, счастливой или улучшилась каким-либо иным образом, – это дать людям возможность сравнить два варианта и выбрать наиболее привлекательный. Например, если Пинкер прав, то любой человек в здравом уме, выбирая между (а) насилием, хаосом, крайней нищетой «племенной» стадии развития человечества и (б) относительной безопасностью и процветанием западной цивилизации, без промедления выберет второй вариант[35].
Но у нас есть эмпирические данные, и они свидетельствуют о том, что Пинкер сильно ошибается.
За последние несколько столетий в целом ряде случаев люди стояли перед таким выбором и почти никогда не шли по тому пути, который предположил бы Пинкер. Некоторые из них оставили нам ясное, аргументированное объяснение своего поступка. Рассмотрим случай Хелены Валеро, бразильской женщины испанского происхождения. Пинкер упоминает ее как «белую девочку», похищенную яномами в 1932 году, когда она путешествовала с родителями по Рио-Димити.
В течение двадцати лет Валеро жила в нескольких семьях яномами, дважды была замужем и в итоге стала довольно важной фигурой в своем сообществе. Пинкер кратко цитирует рассказ Валеро о своей жизни, в котором она описывает жестокости набегов яномами[36]. Но он не упоминает, что в 1956 году она покинула яномами с целью отыскать родную семью и снова пожить в «западной цивилизации», а в итоге лишь периодически голодала и постоянно испытывала уныние и одиночество. Спустя некоторое время Валеро, имея достаточно информации для принятия обдуманного решения, предпочла вернуться к яномами[37].
В этом нет ничего необычного. История колонизации Северной и Южной Америки знает множество примеров того, как поселенцы, захваченные в плен или усыновленные местными племенами, впоследствии оставались жить в них, даже имея возможность уйти[38]. Это касается и похищенных детей. Большинство из них, снова встретившись со своими биологическими родителями, возвращались в усыновивший или удочеривший их род, ища там защиту[39]. Напротив, американские индейцы, включенные в европейское общество путем усыновления или брака, в том числе те, кто – в отличие от несчастной Хелены Валеро – получили хорошее образование и обладали значительным состоянием, почти всегда поступали противоположным образом: или сбегали при первой возможности, или – приложив все усилия к тому, чтобы адаптироваться, и потерпев неудачу – возвращались в родное сообщество, чтобы остаться там навсегда.
Одно из самых красноречивых замечаний об этом феномене можно обнаружить в письме Бенджамина Франклина к своему другу:
Если ребенок индейцев, который воспитывается среди нас, обучается нашему языку и приучается к нашим обычаям, отправится навестить своих родных, то его уже не убедить вернуться назад. Так происходит не только с индейцами. Если белые люди обоих полов в молодые годы оказываются в плену у индейцев и некоторое время живут среди них, а потом их выкупают друзья, которые обращаются с ними со всей возможной чуткостью, дабы убедить их остаться среди англичан, в скором времени они начинают испытывать отвращение к нашему образу жизни и всей той заботе и трудам, необходимым для его поддержания и при первой возможности сбегают обратно в леса, откуда их уже невозможно вернуть. Я слышал об одном человеке, который должен был вернуться домой, где он получил бы хорошее наследство; но обнаружив, что забота о наследстве сопряжена с определенными хлопотами, он отказался от него в пользу своего младшего брата и, захватив с собой только ружье и шерстяную накидку, направился обратно в дикую природу[40].
Многие из участников этого «соревнования» цивилизаций изложили причины, побудившие их остаться среди своих бывших похитителей. Некоторые подчеркивали достоинства свободы, обнаруженной ими в коренных североамериканских обществах, включая сексуальную свободу, но также и свободу от ожидавшегося от них постоянного тяжелого труда в погоне за землей и богатством[41]. Другие отмечали то, как «индейцы» противятся нищете, голоду и другим лишениям. Причина была не столько в том, что они боялись бедности, сколько в том, что жизнь в обществе, где никто не испытывает ужасных страданий, казалась им гораздо более приятной (подобно тому, как Оскар Уайльд заявлял, что выступает за социализм потому, что ему не нравится видеть и слушать бедняков[42]). Любой, кто вырос в городе, полном бездомных и нищих, – а это, к сожалению, большинство из нас – всегда испытывает некоторое потрясение, когда узнаёт, что всё может быть иначе.
Другие отмечали легкость, с которой чужаки, взятые в «индейские» семьи, могли получить признание и достигнуть высоких позиций в усыновившем или удочерившем их сообществе, присоединиться к семье вождя или даже стать вождем[43]. Западные пропагандисты бесконечно твердят о равенстве возможностей; судя по всему, у представителей таких сообществ возможности действительно равны. Однако наиболее распространенной причиной была сила социальных связей, которую люди испытали в коренных американских сообществах: взаимная забота, любовь и прежде всего счастье, которые, как они обнаружили, невозможно было воспроизвести, вновь оказавшись в европейских условиях. «Безопасность» принимает различные формы. Можно чувствовать себя в безопасности, зная, что, согласно статистике, в вас с меньшей вероятностью выстрелят из лука. А можно – зная, что в мире есть люди, которые позаботятся о вас, если это всё же случится.
Почему традиционный нарратив истории человечества не только ошибочный, но и неоправданно скучныйСоздается впечатление, что жизнь в первобытных условиях была, грубо говоря, гораздо интереснее, чем жизнь в «западном» городе или мегаполисе, особенно если вам нужно на протяжении многих часов заниматься монотонными, повторяющимися и бессмысленными вещами. Тот факт, что нам тяжело представить себе, какой бесконечно увлекательной и интересной могла бы быть такая альтернативная жизнь, возможно, характеризует скорее ограниченность нашего воображения, чем эту жизнь.
Обеднение картины исторического развития, сведение людей до стереотипных образов, упрощение проблем (мы по своей природе эгоистичны и жестоки или, наоборот, добры и склонны к сотрудничеству?) – одна из самых вредных черт стандартного изложения мировой истории. Такой нарратив подрывает или даже разрушает наше представление о человеческих возможностях. В конечном счете «благородные» дикари оказываются такими же скучными, как и обычные дикари; что еще более важно, ни те ни другие на самом деле не существуют. Хелена Валеро была в этом отношении непреклонна. Она настаивала, что яномами не были ни демонами, ни ангелами. Они были такими же людьми, как и мы.
Конечно, нельзя забывать: социальная теория неизбежно предполагает определенное упрощение. Например, почти про любое действие человека можно сказать, что в нем есть политический, экономический, психо-сексуальный аспект и так далее. По большей части социальная теория – игра, в которой мы делаем вид, просто ради дискуссии, что существует лишь какой-то один из этих аспектов. По сути, мы сводим всё к карикатуре, и это позволяет нам выявить закономерности, которые в противном случае остались бы невидимыми. В результате весь настоящий прогресс в социальных науках стал возможен благодаря тем, кому хватало смелости говорить вещи, в конечном приближении слегка нелепые: работы Карла Маркса, Зигмунда Фрейда или Клода Леви-Стросса – это лишь несколько характерных примеров. Нужно упростить мир, чтобы открыть в нем что-то новое. Проблема возникает, когда открытие давно совершено, а люди продолжают упрощать.
Высказывания Гоббса и Руссо были ошеломляющими и глубокими для их современников, открывали новые просторы воображению. Теперь же эти идеи звучат банально. В них нет ничего, что оправдывало бы продолжающееся упрощение истории человечества. Современные социологи сводят людей прошлого до двухмерных карикатур не столько для того, чтобы продемонстрировать что-то незаурядное, а потому, что, по их представлениям, именно такой формы «научности» от них ожидают. В результате это лишь обедняет историю и, как следствие, – наше представление о возможном. Завершим введение еще одним примером, прежде чем перейти к сути дела.
Со времен Адама Смита так называемая примитивная торговля рассматривается в качестве аргумента в пользу укорененности современных форм конкурентного рыночного обмена в самой природе человека. Известно, что десятки тысяч лет назад некоторые предметы – драгоценные камни, ракушки или другие украшения – перемещались на огромные расстояния. Зачастую именно предметы такого рода, как позднее отмечали антропологи, использовались в качестве «примитивных валют» по всему миру. Несомненно, это должно доказывать, что капитализм в том или ином виде существовал всегда, не так ли?
В таких доказательствах заложен порочный круг. Если драгоценные предметы перемещались на большие расстояния, это свидетельствует о «торговле», а если существовала торговля, то она так или иначе должна была принять какую-то коммерческую форму; следовательно, тот факт, что, скажем, три тысячи лет назад балтийский янтарь попал в Средиземноморье или ракушки из Мексиканского залива очутились в Огайо, доказывает, что уже тогда существовали зачатки рыночной экономики. Рынки встречаются повсеместно. Следовательно, рынок наверняка существовал. Следовательно, рынки встречаются повсеместно. И так далее.
Авторы, рассуждающие подобным образом, лишь подтверждают свою неспособность вообразить другой процесс перемещения драгоценных предметов. Но сама по себе нехватка воображения – не аргумент. Складывается ощущение, что эти авторы боятся предложить что-то оригинальное, а когда всё же решаются, считают своим долгом использовать расплывчатые наукообразные формулировки («трансрегиональные сферы взаимодействия», «многоуровневые сети обмена»), чтобы не строить предположений о том, что же именно за ними стоит. При этом антропология обеспечила нас бесчисленными примерами того, как ценные предметы перемещались на большие расстояния в отсутствие чего-либо даже отдаленно напоминающего рыночную экономику.
В книге Бронислава Малиновского «Аргонавты западной части Тихого океана» (1922), основополагающей этнографической работе XX века, описывается «кольцо кула» на островах области Массим в Папуа – Новой Гвинее. Мужчины на каноэ отправлялись в рискованные экспедиции по опасным морям, чтобы обменяться наследственными браслетами и ожерельями (самые значимые украшения обладали своим именем и историей прошлых владельцев) – только затем, чтобы вскоре передать их следующему владельцу, снова отправившись в экспедицию на другой остров. Драгоценные реликвии бесконечно кружат по цепи островов, пересекая сотни миль по океану: браслеты – в одном направлении, ожерелья – в противоположном. Внешнему наблюдателю это кажется бессмысленным. Для мужчин[44] Массима это было самым главным приключением – нет ничего важнее, чем таким образом донести свое имя до мест, которые ты сам никогда не видел.
Можно ли назвать это «торговлей»? Вероятно, – но в таком случае нам придется изменить до неузнаваемости обычное определение этого слова. Существует множество этнографических работ о том, как подобный обмен на большом расстоянии реализуется в обществах, где нет рынков. Иногда действительно происходит бартер: различные группы развивают местные промыслы – одна группа известна изделиями из перьев, другая поставляет соль, в третьей группе все женщины занимаются гончарным делом – чтобы получить то, что они не могут сделать сами; иногда какая-то группа специализируется на самой перевозке людей и вещей. Но часто такие региональные сети появляются по большей части ради дружественных взаимоотношений или для того, чтобы создать повод время от времени ездить друг к другу в гости[45]. Существуют и многочисленные другие варианты, тоже не имеющие ничего общего с «торговлей».
Основываясь на этнографической литературе о коренных обществах Северной Америки, перечислим для читателя несколько вариантов того, что же на самом деле подразумевается под «протяженными сферами взаимодействия» из прошлого:
1. Поиск предметов из сновидений. В XVI и XVII веке у народов, говоривших на ирокезских языках, считалось очень важным в буквальном смысле слова «осуществлять свои сны». Многие европейские наблюдатели изумлялись готовности индейцев отправиться в многодневное путешествие за каким-нибудь предметом – трофеем, кристаллом – или даже животным (например, собакой), который они перед этим заполучили во сне. Если человеку приснилась вещь, принадлежащая соседу или родственнику (котел, украшение, маска и так далее), он мог спокойно попросить ее; как следствие, такие предметы постепенно перемещались из города в город. У народов Великих равнин путешествия на большие расстояния в поисках редких или экзотических предметов могли быть частью поиска предметов из видений[46].
2. Странствующие целители и артисты. В 1528 году потерпевший кораблекрушение испанец по имени Альвар Нуньес Кабеса де Вака по пути из Флориды в Мексику оказался на территории нынешнего Техаса. Там он обнаружил, что от одной деревни до другой можно легко добраться (даже если эти деревни воюют друг с другом), предлагая услуги волшебника и целителя. В значительной части Северной Америки целители были одновременно и артистами и часто обзаводились немалой свитой; те, кто считал, что представление спасло их жизнь, обычно отдавали всё свое имущество труппе, члены которой делили его между собой[47]. Таким образом драгоценности могли легко перемещаться на очень большие расстояния.
3. Азартные игры среди женщин. Во многих коренных обществах Северной Америки женщины были заядлыми игроками. Женщины из расположенных рядом деревень часто собирались сыграть в кости или в игру с миской и сливовой косточкой. Обычно на кон ставили бусы из ракушек или другие украшения. Археолог Уоррен Дебур, хорошо знакомый с этнографической литературой, считает, что многие ракушки и другие экзотические предметы, обнаруженные посреди континента, попали туда благодаря тому, что их на протяжении очень длительных периодов времени таким образом разыгрывали между деревнями[48].
Мы можем привести множество других примеров, но полагаем, что читатель уже понял, к чему мы клоним. Когда мы просто гадаем, чем занимались люди, жившие в другое время и в другом месте, наши предположения почти всегда оказываются гораздо менее интересными и необычными – одним словом, гораздо менее человечными, – чем то, что происходило на самом деле.
Что ждет нас дальшеВ этой книге мы собираемся не только предложить новую версию истории человечества, но и пригласить читателей окунуться в новую науку об истории, такую, которая возвращает нашим предкам их человечность в полной мере. Вместо того чтобы сразу задаться вопросом о неравенстве, мы начнем с другого – как «неравенство» вообще стало проблемой, а затем будем постепенно выстраивать альтернативный нарратив, лучше соответствующий накопленным к настоящему моменту знаниям. Если люди не жили на протяжении девяноста пяти процентов своей истории в небольших группах охотников-собирателей, то чем они занимались всё это время? Если появление сельского хозяйства и городов не привело к возникновению иерархий и доминирования, то что они изменили? Что на самом деле происходило в те периоды, когда, как мы привыкли считать, формировались «государства»? Ответы на эти вопросы зачастую неожиданны; они указывают на то, что ход истории человечества в меньшей степени, чем мы склонны думать, высечен в камне и в большей – полон различных возможностей.
В определенном смысле эта книга – попытка заложить фундамент для новой мировой истории, как это удалось сделать Гордону Чайлду в 1930-е годы, когда он придумал такие словосочетания, как «неолитическая революция» и «урбанистическая революция». Поэтому она обречена на некоторую шероховатость и неполноту. В то же время эта книга посвящена и другому, а именно поиску правильных вопросов. Если «откуда произошло неравенство?» – не самый главный и интересный вопрос человеческой истории, какой вопрос должен занять его место? Истории бывших пленников, которые предпочли вернуться в леса, свидетельствуют о том, что Руссо не во всём ошибался. Мы действительно что-то утратили. Но его понимание того, что это было, довольно своеобразное (и в конечном счете ошибочное). Как описать это нечто? И в какой степени мы действительно этого лишились? Что всё это подскажет нам о возможности перемен в современном обществе?
На протяжении почти десяти лет мы – двое авторов этой книги – вели друг с другом продолжительный диалог, посвященный именно этим вопросам. Оттого структура книги получилась довольно необычной. В начале мы прослеживаем исторические корни вопроса («как возникло социальное неравенство»?) вплоть до контактов между европейскими колонистами и интеллектуалами из числа коренных жителей Америки XVII века. Влияние этих контактов на то, что мы сейчас называем Просвещением, как и вообще на наши базовые представления об истории человечества, оказалось и менее очевидным, и более существенным, чем мы признаём. Выяснилось, что обращение к этим контактам имеет важнейшие последствия для современных попыток осмыслить прошлое человечества, включая происхождение сельского хозяйства, собственности, городов, демократии, рабства и самой цивилизации. В итоге мы решили написать книгу, которая отразила бы, пусть лишь отчасти, эту эволюцию наших собственных размышлений. Поворотным для нашей дискуссии стало решение уйти от европейских мыслителей, таких как Руссо, и вместо этого взглянуть на интересующие нас вопросы глазами индигенных мыслителей, которые в конечном счете вдохновили мыслителей европейских.
С этого и начнем.
Глава II. Порочная свобода
Индигенная критика и миф о прогрессе
Жан-Жак Руссо оставил нам историю о происхождении неравенства, которую и по сей день рассказывают и пересказывают в различных вариациях. Это история об изначальной невинности человечества и о том, как мы невольно отказались от изначальной простоты в погоне за технологическими открытиями. Этот путь привел людей одновременно к нашей «сложности» и к нашему порабощению. Как возникла эта противоречивая история цивилизации?
Исследователи интеллектуальной истории до сих пор полностью не отказались от теории, согласно которой историю творят Великие Мужи. Будто все важные идеи в любую эпоху восходят к той или иной экстраординарной личности – Платону, Конфуцию, Адаму Смиту или Карлу Марксу. Однако их сочинения – это лишь реплики, пусть и блестящие, в дискуссиях, развернувшихся в те времена в тавернах и парках или на званых ужинах (или в университетских аудиториях), которые без участия великих мужей не были бы записаны. Это почти то же самое, что считать, будто Уильям Шекспир единолично изобрел английский язык. На самом деле многие наиболее выдающиеся фигуры речи широко использовались его современниками и соотечественниками в повседневном общении. Авторы этих выражений давно канули в Лету, как и авторы шуток «тук-тук, кто там?»[49]. Конечно, если бы не Шекспир, то и сами выражения наверняка давным-давно вышли бы из употребления и забылись.
Всё это относится и к Руссо. Из работ по интеллектуальной истории складывается впечатление, будто трактатом 1754 года «Рассуждение о происхождении и основании неравенства между людьми» Руссо единолично запустил дискуссию о социальном неравенстве. На самом же деле «Рассуждение» было написано Руссо для конкурса сочинений по этой теме.
Раздел, в котором мы продемонстрируем, как критика европоцентризма может дать обратный эффект и превратить индигенных мыслителей в «кукол, сделанных из носков»В марте 1754 года научное общество под названием Дижонская академия наук, искусств и литературы объявило национальный конкурс сочинений на следующую тему: «Каково происхождение неравенства среди людей и допускается ли оно естественным законом?» В этой главе мы хотели бы задаться следующим вопросом: почему группа ученых из Франции эпохи Старого порядка[50], которая организовала конкурс сочинений, посчитала этот вопрос уместным? Ведь такая формулировка вопроса предполагает, что социальное неравенство действительно имеет происхождение. То есть люди когда-то были равны, а затем произошло событие, изменившее ситуацию.
Удивительно, что люди, которые жили во время абсолютистской монархии Людовика XV, могли размышлять о неравенстве подобным образом. Ведь, в конце концов, ни у кого из французов не было личного опыта жизни в обществе, где все равны. В культуре того времени почти каждый аспект взаимодействия между людьми – принятие пищи, распитие алкоголя, работа или общение – был связан со сложными иерархиями и ритуалами почтения. Авторы, приславшие свои тексты на конкурс сочинений, были мужчинами, которых всю жизнь окружали слуги, удовлетворявшие все их потребности. Они опирались на покровительство герцогов и архиепископов. Заходя в помещение, они всегда знали о том, какое положение в иерархии занимает каждый из присутствующих. Руссо был одним из таких людей. Амбициозный молодой философ был занят сложным проектом – пытался улучшить свое положение при дворе через постель. Вероятно, ближе всего к социальному равенству он мог оказаться на званом ужине, когда раздавали равные куски торта. Однако Руссо и его современники не считали такое положение дел естественным и предполагали, что так было не всегда.
Если мы хотим понять, почему они так думали, то нам нужно принять во внимание не только события в самой Франции, но и ее место в мире в то время.
Увлеченность вопросом социального неравенства в 1700-е являлась относительно новым явлением и была связана с тем потрясением и замешательством, которое испытали европейцы, когда Европа внезапно интегрировалась в мировую экономику, в которой на протяжении долгого времени играла незначительную роль.
В Средние века большинство из тех, кто хоть что-то знал о Северной Европе, считали ее непривлекательным захолустьем, населенным религиозными фанатиками, которые за исключением периодических нападений на соседей («крестовые походы») в целом не играли никакой роли в мировой политике и торговле[51]. В это время европейские интеллектуалы только открывали заново Аристотеля и античный мир и плохо представляли себе, о чем размышляют и спорят люди в других уголках мира. Всё изменилось в конце XV века, когда португальские эскадры впервые обогнули Африку и оказались в Индийском океане, – и особенно после того, как испанцы завоевали обе Америки. Внезапно значительную часть земного шара стали контролировать несколько могущественных европейских королевств, а европейские интеллектуалы столкнулись не только с цивилизациями Китая и Индии, но и с множеством прежде незнакомых социальных, научных и политических идей. Результат этого наплыва новых идей стал известен как «Просвещение».
Конечно, историки идей обычно рассказывают об этом несколько иначе. Они не только приучают нас рассматривать интеллектуальную историю преимущественно как результат деятельности отдельных личностей – авторов великих книг и идей. Они также утверждают, что эти «великие мыслители» писали и размышляли, опираясь исключительно на работы друг друга. Как следствие, даже когда мыслители Просвещения прямо указывают, что их идеи позаимствованы из зарубежных источников (немецкий философ Готфрид Вильгельм Лейбниц, к примеру, призывал соотечественников перенять китайскую модель государственного управления), современные историки зачастую настаивают, что такие заявления не стоит рассматривать всерьез; на самом деле, как они утверждают, эти мыслители не перенимали идеи китайцев, персов или коренных жителей Америки, а лишь приписали свои собственные идеи экзотическим Другим[52].
Такие предположения поражают высокомерием – будто «западная мысль» (как ее стали называть впоследствии) была столь могущественным и монолитным корпусом идей, что никто не мог оказать на нее существенного влияния. Очевидно, что это не так. Рассмотрим случай Лейбница: в течение XVIII и XIX веков правительства европейских держав постепенно переняли идею, что в подчинении государства находится население страны, обладающее единым языком и культурой и управляет этим государством бюрократическая машина, состоящая из чиновников, которые получили гуманитарное образование и сдали экзамены, проходящие на конкурентной основе. Это удивительно, ведь ничего даже отдаленно похожего не существовало в Европе на протяжении всей ее истории. Однако почти точно такая же система к тому моменту уже несколько столетий действовала в Китае.