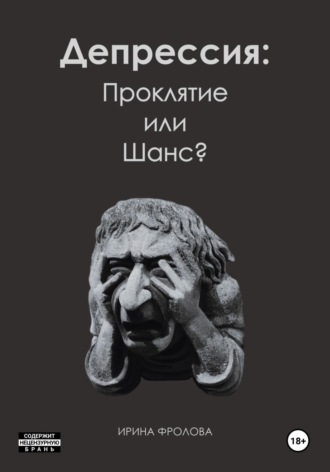
Полная версия
Депрессия: кто виноват и что делать? Для тех, кто ищет безмедикаментозный путь излечения.
Кора, кроме того, что она контролирует выброс эмоций, является еще и хронометром нашего мозга. ДЛПФК (дорсолатеральная префронтальная кора) «успокаивает» нас тем, что у всего есть конец. Это делает выносимыми любые переживания. Если она отключается, у человека возникает ощущение «ужаса без конца». Он чувствует абсолютную беспомощность и безнадежность: «Это никогда не закончится! Выхода нет!»[24]. В таком состоянии чаще всего и случаются суициды.
Таким образом, в депрессии нарушатся баланс эмоционального мозга и коры. Сильные эмоции (страх, грусть, злость) увеличивают активность подкорковых областей мозга, отвечающих за эмоции, при этом значительно подавляя деятельность различных участков в лобных долях. «Когда это происходит, лобные доли теряют свою способность к подавлению эмоций, и люди «теряют рассудок»[25].
Лимбическая система, «трубя во все концы об опасности», напоминает панику испуганного ребенка. Он истошно «вопит» об угрозе, и организм бросается мобилизовывать все резервы для ее преодоления. Поскольку этот «вопль» не прекращается годами, то организм человека истощается и заболевает. В норме этого «ребенка» успокаивает и контролирует кора. При депрессии кора отключается, и всем рулит этот перепуганный ребенок или по-научному – подсознание, которое человек контролировать не может.
Так почему же подсознание так перепугано? И почему у одних людей этот «ребенок» ведет себя спокойно, а у других он паникует от страха?
Каждый человек в раннем детстве получает много различных «испугов», но кора их худо-бедно «переваривает», придавая этим «испугам» смысл. Но у некоторых людей в детстве случается особенно сильный «испуг», который кора переварить не в силах. И тогда структура мозга изменяется. Нейрофизиологи с помощью МРТ головного мозга даже нашли, как именно. При травме отключается зона Брока – речевой центр, который находится в левом полушарии. Зато другой участок, который находится в правом полушарии под названием поле Бродмана в этот момент активизируется.
Речевой центр отвечает за выражение наших чувств через речь. Например, человек в норме может сказать: «Я злюсь» или «Я грущу». Если превалирует поле Бродмана, которое отвечает за образы, то человек не может сказать словами, что он чувствует. Вместо этого перед его внутренним взором мелькают различные образы, как правило, страшные картинки, которые «заводят» его лимбическую систему, и она бросается его «спасать», зачастую от вымышленной угрозы.
Другими словами, после травмы этот «внутренний ребенок» постоянно «смотрит фильм ужасов», который рисует ему одну и ту же картину его травмы, а «взрослой коры», которая бы его успокоила и все объяснила словами, рядом нет. «Мы были удивлены, – пишет Ван дер Колк, – увидеть активацию этой области спустя долгое время после изначально пережитой травмы». То есть могут пройти годы после травмы, но на снимках по-прежнему видна асимметрия: блок в левом полушарии и активация правого полушария. На языке психологии это звучит как откат с «понимания с помощью слов» к «пониманию с помощью образов». Так, как это делает трехлетний ребенок. А так как травма рождает ужасные образы, они довлеют над человеком всю жизнь, запуская бесконечную выработку гормонов стресса[26].
Кроме того, как выяснили генетики, сильный стресс меняет активность генов нервных клеток (не сами гены, а выраженность их функций). В результате нервные клетки перестраивают маршруты связей друг с другом: формируют новые связи и «отменяют» прежние. Связи между нервными клетками являются путями, по которым движется информация, поступающая как из внешнего, так и из внутреннего мира. И от того, как эта информация оценивается, зависят действия человека. Если в темном углу комнаты он видит темное пятно и решает, что это пальто висит, он продолжит смотреть YouTube. А если человек в этом силуэте «видит» притаившегося грабителя – он выскакивает из квартиры.
Как пишут нейрофизиологи, у человека девяносто миллиардов нейронов, которые образуют порядка двухсот триллионов связей. Психическая травма или хронический стресс меняют характер этих связей. Сама ДНК не страдает, нарушений в ней не найдено, а вот характер связей между нейронами извращается. И вот уже вместо висящего пальто человек видит грабителя. Или он, как это бывает при депрессии, раздувает у себя чувство вины до огромных размеров за пустяковые ошибки. Это происходит за счет перепутывания связей между данными[27].
«Каждая отдельная клетка остается здоровой и чувствует себя прекрасно, но в нейронных сетях возрастает мера хаоса»[28]. И вот уже вместо старых связей образуются новые, благодаря которым человек по-другому начинает воспринимать мир: по-другому мыслить, по-другому действовать. И вот он уже не уверенный и адекватный член общества, а зависимый, трусливый ребенок или притворяющийся «мачо» имитатор.
Абсолютное большинство психоаналитиков связывают психическую патологию, в том числе и депрессию, с перенесенными в детстве психическими травмами. Лоуэн в книге «Радость» пишет: «Я обнаружил страх кастрации у всех моих пациентов, и он сопровождался страхом быть убитым»[29]. Сильный стресс, случившийся в детстве, буквально «ломает мозг» ребенку. Картина «перелома» может быть разной. Сильный стресс может вылиться в депрессию, пограничное развитие личности, в биполярное расстройство или даже в шизофрению. Диагноз не имеет значения. В корне большинства психических заболеваний лежит психическая травма (см. раздел «Травма»).
Психическая травма, если она не настолько тяжелая, чтобы вызвать психическую болезнь, может стать причиной хронических заболеваний. «Путаница на уровне восприятия и смыслообразования у человека, страдающего депрессией, приводит к такой же путанице на уровне иммунной системы»[30]. Нарушение в системе «свой-чужой» приводит к тому, что иммунная система по ошибке нападает на нормальную часть тела, что приводит к самым разным и очень неприятным «аутоиммунным» заболеваниям. Уменьшение клеток-киллеров в крови увеличивает риск заболеть раком[31].
Таким образом, при депрессии, как и при других психических заболеваниях, система самовосприятия дает сбой. Мозг выдает ложные результаты обработки информации. Человек лишается четких ориентиров: где он находится и что с ним происходит. Случается это в момент первоначального сильного стресса, а потом длится всю жизнь. Как будто что-то впечаталось в память человека, и он не может от этого избавиться. В биологии и психологии есть для таких случаев слово «Импринт», что переводится как след или оттиск, мгновенная и надолго запись в память, серьезно влияющая на последующее поведение[32].
Есть гипотеза, согласно которой в момент сильных переживаний в кровь выбрасывается большое количество внутренних опиатов, а они уже через расширение сознания стимулируют образование новых нейронных связей. Новые связи обеспечивают новое видение текущей жизни. К сожалению, это новое видение уводит человека далеко от реальности и, как мы видим, на всю жизнь[33].
Депрессия с точки зрения физики
С точки зрения физики природа всего едина и сводится к связанным друг с другом энергии и информации. Информация является формой или способом организации энергии. Все предметы окружающего мира, состоящие из атомов и молекул, есть энергия с массой, а например, свет и составляющие его фотоны – энергия без массы.[34].
«В человеке два материальных начала: плотное и тонкое», – пишет Исаев в книге «Физическая психология». Тело – плотное, а мысли, чувства, эмоции – тонкое. Личность человека имеет информационную природу и является частью тонкого плана. Органическое и информационное начала взаимодействуют[35].
Медицина занимается только органической составляющей (телом) человека. Она изучает деятельность мозга, подсчитывает количество медиаторов и гормонов, ищет дефект в генах – то есть тем, что можно увидеть, выделить, посчитать. Информационной составляющей занимаются физики, кибернетики, математики.
Физика в лице Эйнштейна доказала, что материя сама по себе ничего не значит без «полевой среды», которая связывает все объекты во вселенной и обуславливает их взаимодействие и свойства. Р. Уилсон говорит о существование морфогенетического поля, которое существует между генами, но не может быть обнаружено «в них»[36].
Курт Левин, книга которого так и называется «Теория поля в социальных науках», привнес теорию поля в психологию. С его точки зрения, именно среда производит изменения в жизненном пространстве человека. В отличие от Фрейда, который считал, что человеком движут влечения, Курт Левин сместил фокус внимания с человека на среду. Среда – это окружение человека: как близкое (семья), так и дальнее (работа, культура). Совокупность личности со средой получило название поля. Вывод прост: поведение определяется внешними объектами и внешними факторами. Ребенка с малых лет наполняют правилами и законами общества, и эти правила он потом исполняет всю жизнь. Он не сам их придумал. Их ему внедрили.
Поле и среда, окружающая нас, это не только среда каких-то объектов, это среда значений и смыслов. Другими словами, поле – это не только люди, но и наши мысли, фантазии, а также убеждения о себе. Я думаю, что таким полем может быть культура, в которой мы все живем, и которая, хочешь не хочешь, на нас влияет. Даже религия, и та не однородна и по-разному влияет на людей.
Проблема заключается в том, что у нас не хватает понятий и слов для описания этого поля. Оно невидимо и не поддается измерению приборами. Возможно, «поле» несет в себе какой-то тип энергии, пока неизвестный науке[37]. Когда ученые, наконец, научатся измерять это поле, мы получим ключ к измерению глубины психических нарушений.
А пока что философам приходится как-то описывать механизмы действия этого поля. Задолго до появления современной физики и современной психологии в Древней Греции скептики уже отмечали Неопределенность и Относительность как неизбежные аспекты человеческой жизни: то, что видит один человек, никогда в точности не совпадает с тем, что видит другой. Фактически они говорили о том, что у каждого человека есть его субъективная реальность. «Каждый по-своему интерпретирует (наделяет смыслом) полученную извне информацию. Это прежде всего относится к словам других. Последняя рождает либо позитивные, либо негативные чувства, а они уже меняют биохимические процессы»[38]. В народе в таких случаях говорят, что словом можно убить.
Согласно этой теории, преобразование – это перевод формы из одной информационной системы в другую. «Когда я, например, разговариваю с вами по телефону, пишет Уилсон, передатчик преобразовывает мои слова (звуковые волны) в электрические заряды, которые поступают в приемник у вас в руке, где они вновь преобразовываются в звуковые волны, которые вы расшифровываете как слова»[39]. Так и негативные установки (негативные мысли, чувства, эмоции – то, что мы называем тонким планом) могут быть легко преобразованы в нейрохимические и гормональные процессы, которые, проходя через гипоталамус, стимулируют выброс нейропептидов. Нейропептиды, а в их число входят и внутренние опиоидные пептиды, способны воздействовать на агрессию человека, его мотивацию, половое влечение, пищевое насыщение, болевую чувствительность и т. д. Кроме того, они участвуют в нейродегенеративных процессах, повреждении ткани мозга вследствие травмы и ишемии[40].
Что касается объяснения работы сознания, законы физического мира в этой области не работают. В настоящий момент наиболее популярной является квантовая парадигма, согласно которой мозг управляется нефизическим абстрактным Я человека. То есть нематериальное Я/ЭГО управляет материальным телом человека.
Любое квантовое состояние – это состояние неопределенности и вероятности. Медицина же оперирует в основном определенностями (тем, что можно пощупать, посчитать и увидеть), так как она связана с материальным миром, а не миром энергий. Поэтому объяснять, как устроена психика, должны не медики, а физики.
Рациональная логика, берущая свое начало от Аристотеля, не может объяснить дуализм квантового состояния. Для Аристотеля выбор из всех возможных вариантов всегда один, он же истинный. Остальные – ложные. А уж тем более в рациональной логике невозможно представить, чтобы истинный и ложный варианты существовали вместе. Например, носок: или длинный, или короткий, и никак не длинный и короткий одновременно. Так же и фотон (света) является или волной, или частицей по Аристотелю. Но в ХХ веке выяснилось, что эксперимент, поставленный одним способом, всегда показывал, что свет распространяется как волны, а при другом способе всегда получалось, что свет распространяется как отдельные частицы[41]. То есть квантовая физика, в отличии от Аристотеля, допускает существование противоположных явлений одновременно. Оказывается, вывод (смысл) зависит от того, как мы смотрим, то есть от наблюдателя.
В квантовой теории есть закон, который звучит так: нельзя исключить наблюдателя из описания наблюдаемого. Этот закон вполне применим к психическим процессам. Восприятие заключается не в пассивном принятии сигналов от внешнего мира (я вижу ворону), а в активных, творческих интерпретациях (оценке) этих сигналов, придании этим сигналам смысла (ворона мне нравится, она украшает пейзаж). Другой человек, который видит эту ворону, может думать совершенно по-другому (раскаркалась тут негодяйка). Еще пример: если на жену накричал муж, то она может решить, что он ее не любит, а может решить, что ему туфель жмет. Два разных смысла приведут к двум разным поведенческим стратегиям – обидеться или перевести все в шутку. Или, как это бывает при депрессии, если наше прошлое нам кажется сплошной катастрофой, то «наблюдатель», который создает эти образы, переделывает наше отношение в сторону «страшилок». Все происходит неосознанно, человек даже страха не чувствует, но в его внутреннем мире идет «война», выбрасываются нейропептиды и меняется биохимия.
Таким образом, смысл гипотетически многообразен. Он одновременно существует во многих вариациях, и мы можем лишь приблизительно говорить о вероятности реализации того или иного варианта. Кот Шредегера и жив, и мертв, пока мы не открыли крышку ящика[42].Так и смысл может быть любым, пока не совершено действие. Если жена в ответ на грубость мужа рассмеялась, то реализовался второй вариант, а если обиделась, то первый. На самом деле этих вариантов не два, а бесконечное множество. Как, впрочем, и множество вариантов поведения человека в одной и той же ситуации. Поэтому современная нейрология говорит о множественности «я» в мозгу каждого человека. Также и одна из ветвей квантовой теории тоже определяет существование множества «я».
В отличие от аристотелевской логики, которая имела дело с определенностями (Носок или длинный, или короткий. Точка. Никаких вариаций), неаристотелевская современная логика имеет дело с неопределенностью и вероятностями (то ли муж меня любит, то ли не любит; то ли я хочу гамбургер, то ли не хочу), что субъективно переживается с определенной долей тревоги. То есть неопределенность всегда тревожна. Чтобы избежать тревоги мы легко выдумываем любую, даже фиктивную, определенность.
Отсюда и рождаются малореальные иллюзии и фантазии (вот получу диплом и разбогатею), так как любая определенность, даже малореальная, лучше самой реальной неопределенности. Нацисты в концлагерях доводили узников до сумасшествия, постоянно ломая правила и разрушая всякую возможность приспособиться хоть к какому-то порядку. Хаос у греков был врагом Космоса (разума).
Таким образом, психические процессы нельзя объяснить рациональной аристотелевской логикой. Они не линейны и во многом субъективны, то есть зависят от «наблюдателя». Каждый по-своему интерпретирует (объясняет) полученную извне информацию. А это не только слова, но и эмоции, жесты, движения тела. Рождающийся в коммуникации смысл вызывает либо позитивные, либо негативные чувства, а они уже меняют биохимические процессы. Поэтому понижение уровня дофамина вовсе не является причиной депрессии, как считают врачи, это всего лишь глубокое следствие.
Не исключено, что в момент сильной травмы и выброса нейропептидов у человека происходит перепрограммирование жизненных программ. Программа «Живи» меняется на программу «Умри». Или, как говорил Фрейд, вместо Эроса включается Танатос. «Английское GIGO – «Garbage In, Garbage Out» означает, что при вводе «замусоренных» данных выдается тоже «мусор»[43]. Дефектное программное обеспечение гарантирует получение неправильных ответов или даже полной бессмыслицы (я урод, я неудачник или даже я убийца). Но, как это ни парадоксально, появление даже фальшивого смысла создает определенность и этим самым успокаивает человека. Фальшивый смысл уходит в подсознание и становится «несущей конструкцией» личности. Человек на него опирается и всячески сопротивляется его осознанию. Ему спокойнее быть «уродом», чем находиться в неопределенности и не знать, кто же он.
У человека, отравленного информационным ядом (ложным смыслом), «картина мира полна фатальных противоречий, но при этом кажется ему поразительно цельной. Его разум повержен, а интеллект сотрясают судороги Стокгольмского синдрома»[44]. В нем формируется ложная идентичность, сформированная правилами, навязанными родителями. Эти правила «врастают в его ум». Человек утрачивает свое «Я» и превращается в придаток социума, а его логика из живой «неаристотелевской», у которой всегда много возможных выборов, превращается в плоскую «аристотелевскую», где выбор один: «Выхода нет!».
Депрессия с точки зрения психологии
В психологии существует много подходов в понимании механизмов депрессии. Наиболее подробное их описание можно найти в статье Катаева З. М. «Психоаналитические концепции депрессии». Здесь я попробую сослаться на самые известные из них, чтобы дать только общее представление о том, что лежит в основании депрессии.
До XVII века в понимании механизма меланхолии преобладал биологический подход: причина заключалась в некоей «черной желчи», которая отравляет мозг. Однако постепенно ученые стали все больше склоняться к тому, что большинство психических расстройств возникает вследствие искаженного эмоционального опыта, что наследственность, неправильное воспитание и нестерпимые страсти могут быть причиной меланхолии.
Современное представление о меланхолии, которую с начала ХХ века стали называть депрессией, ведет начало от работы Фрейда «Печаль и меланхолия». З. Фрейд обращает внимание на то, что самообвинение, самообесценивание у депрессивных пациентов есть результат направленного внутрь гнева. Субъект чувствует гнев к потерянному объекту (например, при смерти матери, либо при потере ее любви), но хотя объект переживается как утраченный, он не хоронится, не происходит прощания с ним. Поэтому человек все горюет и горюет[45].
К. Абрахам, последователь З. Фрейда, писал об амбивалентности чувств депрессивного человека. Он наполнен и любовью, и ненавистью к матери. Ненависть он подавляет и проецирует вовне. Более того, не получив внимания в детстве, человек наполняется чувством мести, которое не решается направить на мать и направляет его на себя, что и порождает его депрессию[46].
Ученик Фрейда К. Юнг писал о депрессии как результате слияния человека с Архетипом Великой матери. Юнг считал, что мы «дышим» воздухом, наполненным опытом жизней наших предков. Он называет этот «воздух» коллективным бессознательным. В нем как раз и создается образ матери, который отражает поведение всех матерей прошлого. Этот образ Юнг и называет архетипом. Описание этого архетипа можно встретить в сказках. Добрая, заботливая мать и холодная, властная мачеха – это две стороны одного архетипа. Архетипа Матери. Возникновение тяжелой депрессии Юнг связывал с влиянием архетипа Великой матери[47].
С точки зрения Юнга, у человека есть свой собственный архетип – архетип Самости. Он в себе содержит смысл жизни человека. Самость – образ Бога внутри нас. К сожалению, в нашей культуре ребенку с детских лет навязывают «правила социального общежития» и этим самым отталкивают от его Самости. Но после сорока лет (Юнг даже считает, что около шестидесяти лет) мы все-таки должны с ней установить связь. Это в норме. У психически больного человека в раннем детстве (как правило, до семи лет) происходит какое-то очень сильное эмоциональное переживание, с которым незрелая психика не справляется. И тогда активизируется дремлющий в генах Архетип, чаще всего Архетип Матери. Реальная мать как бы сливается с ним и вырастает в глазах ребенка до мифических размеров, становится своего рода Богом, которого невозможно ослушаться.
Такой матери надо только поклоняться. Она вызывает и трепет, и ужас. Во внутреннем мире ребенка и особенно в его снах «мать появляется как животное, ведьма, привидение, пожирательница людей, гермафродит и т. п»[48]. Чтобы выжить с такой матерью, ребенок «отключает» свою Самость, и теперь Архетип Матери берет на себя роль его командира. Результатом станет развитие «комплекса Кибелы»: самокастрация, безумие и ранняя кончина.
Огромной заслугой Юнга является то, что он нашел путь избавления от психического заболевания. По его мнению, психика имеет самоисцеляющий компонент. «Чтобы выйти к Самости, надо принять то, что в каждом есть низшего, бессознательного и хаотичного», – пишет Юнг в «Алхимии снов»[49]. Фактически Юнг говорит о том, что надо принять своего внутреннего монстра и установить отношение с так называемой темной стороной психического, неким темным духом, поскольку именно этот темный дух и является двигателем исцеления.
Другими словами, сначала ты принимаешь все темное, что в тебе есть, без осуждения, как близкую и родную тебе часть, а потом производишь обратную операцию – отделяешь темное и мифологическое от своей матери. Ты отделяешь свою реальную мать от архетипа. Тогда образ реальной матери теряет ту силу, которую давал архетип, и она из Бога и повелительницы превращается просто в несчастную женщину. Ты освобождаешься от ее власти и приобретаешь свободу.
Возникновение предрасположенности к депрессии изучала британский психоаналитик Мелани Кляйн. С ее точки зрения, каждый младенец до года проходит две стадии: параноидно-шизоидную и депрессивную. До трех месяцев младенец видит мать расщепленной: одну хорошую, которая кормит, другая плохая, которая отсутствует, когда он голоден. Это параноидно-шизоидная стадия. После трех месяцев у младенца происходит объединение двух «мам» в одну, которая может быть как хорошей, так и плохой. Если в результате каких-то травматических событий младенец застрянет на первой позиции, то в будущем это выльется в агрессивный и параноидный характер или даже в шизофрению. А если застрянет на второй позиции, то в будущем возникнет депрессия. Для депрессии в таком случае характерно сильное чувство вины, которое будет основой самоосуждения и самообесценивания[50].
Идеи М. Кляйн нашли продолжение в работах британского психиатра, психоаналитика Уилфреда Биона, разработавшего теорию контейнирования. Контейнирование есть способность матери объяснить младенцу, что с ним происходит. Когда младенец испытывает дискомфорт, например, от мокрых пеленок, он не понимает, что с ним происходит. Он чувствует ужас и криком зовет мать. Та, определив причину, говорит ему: «Ты мокрый, сейчас я тебя переодену». Она переводит его «ужасные» ощущения в понятный вывод и этим успокаивает ребенка. Контейнирование – важный навык, которому учит ребенка мать. Если она не владеет им, то ребенок в своей жизни будет плохо осознавать свои эмоции и чувства, и это станет базой для депрессии[51].
Британский психоаналитик Д. Винникотт заметил, что степень тяжести депрессии коррелирует с уровнем развития личности на момент утраты. «Чистая депрессия» – самый легкий уровень, соответствует психоневрозу. Шизофрения – самый тяжелый уровень, соответствует психозу[52].
Современник Д. Винникотта Ф. Перлз говорил о параллельности физических и психических процессов. Человек усваивает информацию из внешнего мира подобно пище. Информация либо проглатывается, либо пережевывается субъектом, и от этого зависит его поведение. Правильно – пережевывать, а неправильно – глотать, не жуя. Если человек бежит по жизни, не анализируя свое поведение, то сигналы внешнего мира не успевают перевариться и стать опытом. Вместо этого вся информация, все недопережитые состояния (горя, обиды, гнева) слипаются в большой ком, который лежит как камень в подсознании. И, если использовать терминологию пищеварительной системы, вызывает «заворот кишок», извращая поведение[53].
С точки зрения А. Лоуэна, как, впрочем, и большинства психоаналитиков, именно мать формирует веру ребенка в мир. Если ребенок встречается с насилием в детстве, он испытывает беспомощность и отчаяние. «Ребенок не может постигнуть зло как понятие и не иметь с ним дело», – пишет Лоуэн[54]. Ребенок не может уйти от насильника, поэтому он подавляет чувства страха и гнева, выстраивает «броню контроля» и лишается спонтанности.

