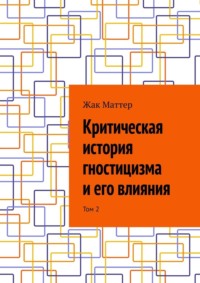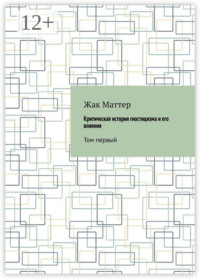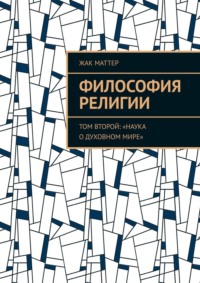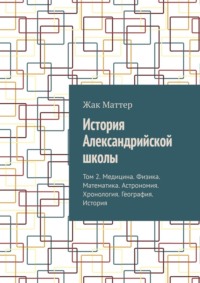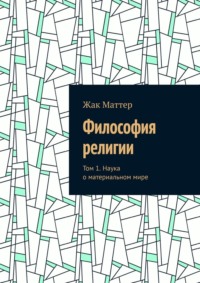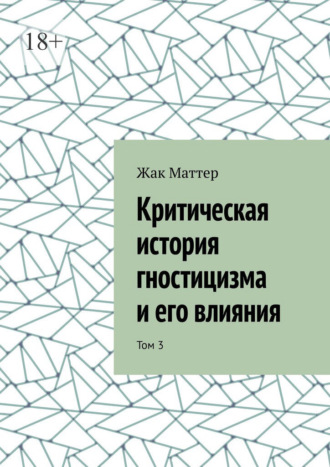
Полная версия
Критическая история гностицизма и его влияния. Том 3
латинской церкви, направлены против гностиков. Однако неверно, что гностицизм вызвал монтанизм как некую антитезу. Если последняя из этих систем отходит от по сути спекулятивного гнозиса Египта, то она приближается к по сути практическому гнозису Сирии и Малой Азии. Несомненно, даже если между гностиками и монтанистами существовала антитеза, между ними была связь, и мы можем рассматривать некоторые из теорий последних как менее диссидентский гнозис. Если диссидентский гнозис имеет своим источником традицию, тайну, спекуляцию, экстаз и апокрифы, то монтанисты имеют Пневму, ту Пневму, которая уже была дарована в Ветхом Завете, которую автор христианства обещал сделать более чистой и обильной, которую Церковь надеется всегда сохранять, и о которой Монтан сказал, что он обладает ею в высшей степени, до такой степени, что может завершить христианские доктрины.49
Действительно, по мнению монтанистов, откровения Высшего Существа и образование человеческого рода происходят по степеням. Ветхозаветные люди были в детстве, новозаветные – в отрочестве. Монтанисты же достигают совершенства только через откровения Пневмы.
Монтанисты привели свои откровения в гармонию с предшествующими. Они не вводили новшеств в догматику и стремились к превосходству только на практике. Однако они сблизились с гностиками, объединившись с несколькими женщинами выдающегося ума, к чьим предполагаемым откровениям они прислушивались. Прискилла, Максимилла, Перпетуя и Квинтилла играли с ними если не роль Елены-Проуники, то, по крайней мере, Агапы, Филумены и Марцеллины. S. Епифаний называет Максимилла, ἡ τῆς παρακολουθίας καί διδασκαλίας Γνῶσις.
Квинтилий принадлежал к секте каинитов или каинанитов50. Она боролась против крещения, как и некоторые гностики.51
Против монтанистов выдвигались обвинения, которые могли бы спутать этих благочестивых людей с атактистами и карпократианами. Их лидера упрекали в том, что он называл себя верховным богом, подобно Симону Гетеанскому; но это проявления современной ненависти, которой мы не должны ослеплять себя.
Верно и то, что монтанисты решительно выступали против гностиков. Кроме того, для более или менее полного возвращения в лоно Церкви им требовалось лишь некоторое количество писателей, подобных Тертуллиану. Во главе с такими писателями эта партия не только была бы исправлена, но и ее практические и позитивные тенденции успешно противостояли бы усилиям гностиков.
Однако наряду с этими позитивными тенденциями существовали энтузиазм пророчества, вдохновения и грезы хилиазма; и в этом отношении монтанисты вряд ли смогли бы уничтожить гнозис. Его уничтожили не столько ортодоксальный гнозис александрийских писателей, сколько регулярное учение Церкви и строгость византийских эдиктов. Верно и то, что гностицизм имел большее отношение к умозрительным школам, чем к практическим, и что он должен был оказать большее влияние на последние, чем на первые.
Глава IX. Спекулятивные школы. – Теодотианцы. Алогиане. – Праксеаты. – Ноэтиане. Сабеллиане. Ариане
Поскольку спекулятивные тенденции гнозиса были гораздо сильнее его аскетических тенденций, естественно полагать, что они больше импонировали школам, которые, как и он, стремились придать христианству тот дух, те формы и то богатство науки, которых, как казалось вначале, ему не хватало. Поэтому естественно ожидать, что гностицизм оказал сильное влияние на диссидентские доктрины, родившиеся в Александрии, Антиохии, Риме и Эдессе, центрах великих общин и знаменитых школ. Однако, не обнаружив такого влияния, мы едва ли можем найти какие-либо связи между гностиками и несколькими второстепенными партиями. Ни один из великих расколов этих веков, ни арианство, ни несторианство, ни евтихианство, не были вызваны гнозисом.
Феодотиане, алоги, праксеаты, ноаиты, сабеллиты и ариане столкнулись с гностиками только в своих претензиях на первобытную доктрину христианства и в своем несогласии с божественной природой Спасителя.
Однако мы отмечаем некоторые поразительные аналогии между их тенденциями и тенденциями гнозиса.
Действительно, если говорить в первую очередь о тех из этих школ, которые кажутся наиболее близкими к гностикам Сирии, то можно сказать, что основатель феодотианцев Феодот, прозванный Кожевником, отправился из Константинополя в Рим [около 192 года] с планами, подобными тем, что привели туда Сердона, Маркиона, Валентинуса и других лидеров гностицизма. Стремясь остаться в великой римской общине, он, как и они, утверждал, что только ему одному принадлежит истинная доктрина первобытного христианства, и, как и они, он изменил или отверг, согласно своим тайным традициям, некоторые писания священного кодекса, в частности Пятикнижие и книги пророков.
Его партия, которая никогда не была многочисленной, оспаривала божественность не Христа, а человека Иисуса, и презирала мученичество как нечто, что может быть достойно только в глазах суеверия52.
Таково было мнение большинства гностиков.
Феодотиане были еще более близки к маркосианам в своей любви к аллегорическим вычислениям и древним математикам.
Одного из учеников этого Феодота, носившего то же имя, иногда путают с Феодотом Валентинианом. Такая путаница естественна, и если их следует отличать друг от друга, то они оба, по крайней мере, исповедовали гностические взгляды.
Феодот Младший, ученик Кожевника и сам прозванный Банкиром, связывал весь свой гнозис со священником Мелхиседеком, упоминаемым в книгах Моисея53. Он считал этого человека высшим духом, своего рода божественной силой (δύναμις). Он ставил его выше земного Спасителя и говорил, что в деле нравственного совершенствования он помогает ангелам, как Иисус помогает людям.
Мелхиседек, таким образом, в его глазах был небесным спасителем. Поэтому последователи Феодота назывались мельхиседеками.54
Из всех этих расколов небольшая секта артемонитов разделяла с мельхиседеками только их оппозицию к божественности Иисуса Христа. Как и гностики, они основывали свою оппозицию на истинном первобытном учении христиан, утверждая, что догмат о божественности Спасителя не содержится в апостольских учениях и что эти учения были изменены при папе Зефирине.55
Особая секта противников Логоса, алогиане, чье имя содержит эпиграмму, которой не пренебрегает православная церковь, сформировала такую же оппозицию божественности Иисуса Христа. Они отрицали, что земной Спаситель был Логосом, соглашаясь в этом вопросе с некоторыми гностиками, которые считали Логос небесным Спасителем.
Когда мы видим, как школы из разных регионов вместе протестуют против догмата, который Церковь поставила во главе всех остальных, у нас может возникнуть искушение отдать этим авторитетам больше заслуг, чем они заслуживают. Но когда мы видим, как алогисты вместе с гностиками прибегают к самым произвольным гипотезам, мы можем легко оценить ценность их свидетельства. Так, диссиденты, отвергавшие Евангелие и Апокалипсис святого Иоанна, чье учение противоречило их собственному, были настолько непоследовательны или невежественны, что приписывали Церинфу те тома, которые противоречили его учению в той же степени, что и их собственное.
Другой лидер партии, Праксеас, который, как и многие другие, прибыл из Малой Азии, чтобы заниматься догматикой в Риме, показал себя еще более приверженцем гнозиса, хотя и высказывался несколько менее резко против той же догмы. Он говорил, что Иисус был просто человеком, но при крещении Бог-Отец сошел на землю, чтобы соединиться с ним.
Это было именно то, чему учили гностики. Как и они, он проводил различие между видимым и невидимым Богом, но не делал их двумя разными существами, как некоторые из них; скорее, как и Симон, он учил, что Иисус Христос – это только Отец, явленный людям.56
Тертуллиан, который в своем трактате против Праксея боролся против этой теории, как он боролся в других местах против теории главных гностиков, уже указал на ее совпадение с некоторыми из их мнений.
Однако ученики Праксея, которые, по-видимому, были довольно многочисленны, если не в Риме, то, по крайней мере, в Африке, и особенно в Карфагене, куда этот лидер отправился из Рима, не восхищались вместе с валентинианами и другими теософами тем, что Бог, соединенный с человеком Иисусом в крещении, покинул его перед тем, как подвергнуться пыткам. Напротив, их порицали за учение, известное как патропассианство, или мнение, что сын настолько мало отличается от отца, что последний становится причастным к страданиям первого.
Следы гностицизма мы находим и в учении художника Гермогена, еще одного лидера партии, который осмелился поднять вместе с гностиками и платониками своего времени вопрос о происхождении зла. Правда, в этой дискуссии он, в противовес первым, показал, что система эманации, в конечном счете, делает Бога автором зла. Правда и то, что его теория материи, которую он связывал с космогонией Бытия, еще дальше отстоит от последней. Тем не менее, он соприкасается с гнозисом, уча, что если в мире существует зло, то это потому, что Бог не смог изменить порочную природу материи. Его идея хаоса, приведенного в движение, запечатлена Тертуллианом в очень вульгарном, но весьма живописном образе, который мы не будем пытаться передать на языке, где слово marmite не имеет даже благородства olla, и который мы представим на латыни: Inconditus et confusus et turbulentus fuit motus, sicut ollæ undique ebullientis.
Гермоген был не более чем полуплатоником и полугностиком в своей теории душ нечестивых и демонов, из которой он выводил происхождение материи, тогда как предшествовавшие ему софисты связывали происхождение первых, а зачастую и вторых, с самим божеством. Правда, Валентинус и некоторые другие считали материю матерью Сатаны, а следовательно, и матерью его детей-демонов.
Влияние гностицизма еще более очевидно в теориях Ноэта, особенно в его христологии.
Ноет не хотел ни учить о тождестве Отца и Сына, ни делать Сына творением Отца, и искал в двусмысленности терминов средство шокировать ни веру, ни разум. По сути, он говорил, что Слово, Логос, не было само по себе, как Разум и без плоти, истинным Сыном, но что оно было Словом и совершенным Моногеном.
Некоторые из образов, которые он приложил к этой теории, мало что сделали для ее прояснения; они лишь показывают, что он был хорошо знаком со стилем нескольких гностических школ. Используя язык маркосианцев, он называл Сына первым голосом Отца. Используя язык Зороастра, каббалистов и священных кодексов, которые также принял святой Афанасий, он называл его светом, исходящим от света. Используя терминологию мандаитов, он называл его водой, исходящей из источника. Наконец, похоже, что он также изучал митраистские и манихейские теории, потому что он по-прежнему называл его лучом, исходящим от солнца.
Естественно думать, что все диссидентские школы, искавшие более или менее рациональные решения сложных догм путем спекуляций, обращались к теориям гностицизма, и, найдя аналогии, легко прийти к выводу, что между ними существовала связь. Сабеллий, похоже, также был знаком с
теории гнозиса, особенно симонианской школы. Это сомнительно, однако, похоже, что он близок к ним в своей терминологии. Отец, Сын и Святой Дух были, по его мнению, лишь различными проявлениями одного и того же существа; в своих теологических гипотезах он использовал слово Δύναμις, которое особенно любили симониане. Подражал ли он гностикам, утверждая, что сам Иисус Христос открыл своим ученикам этот способ видения как глубочайшую тайну57? Думаю, да.
Другая секта, получившая имя недостойного епископа Антиохии Павла Самосатского, приняла некоторые гностические взгляды на очень сложный догмат о воплощении. Она также считала Иисуса Христа сыном Иосифа и Марии, но добавляла, что Слово, София или Ум Божий, одним словом, Nous гностиков, соединилось с человеком Иисусом, так что он мог называть себя и Сыном Божьим, и самим Богом.
Из всех этих сект, претендовавших на научность, больше всего мы удивимся, если увидим, что они следуют тенденциям гностицизма, – это секта Ария.
На самом деле этот тонкий богослов из Александрии, некоторое время преподававший в городе и, возможно, в школе, прославленной Оригеном и Климентом, которому посчастливилось стать основателем Александрийской церкви, был одним из самых известных богословов в мире. Климент, который стремился нести в доктрины своего времени факел критики и особенно полностью рациональной экзегезы, с трудом встретился с гностицизмом и был вынужден бороться с его последствиями, а также с его принципами. Неудивительно, что он должен был принять если не позицию Тертуллиана, то, по крайней мере, Оригена, который, как и он, был несогласен по некоторым вопросам. Арий не счел нужным играть эту роль, либо потому, что гностики Александрии были уже слишком ослаблены, чтобы он мог решиться на борьбу с ними, либо потому, что он не хотел отвлекаться от своей великой задачи – реформы господствующего учения о личности Иисуса Христа.
Однако некоторые идеи, выдвинутые Арием для разрешения давних вопросов о взаимоотношениях Отца и Сына, имеют определенное сходство с идеями гнозиса.
Среди тех, кто до сих пор пытался объяснить христологию, некоторые, следуя по стопам Зороастра и каббалистов, предполагали ряд эманаций, одни из которых были ниже других, но всегда обозначались термином вечные или эоны, и считали, что один из наименее несовершенных эонов сошел на человека Иисуса во время его крещения в Иордане.
Другие, следуя Платону или Филону, полагали, что Логос или София Божья соединилась с человеком Иисусом с самого его рождения.
Арий не хотел ни одной из этих теорий и, отвергая то, чему учили эбиониты и назареи, ноаиты и савеллиане, манихеи и гностики, избегая при этом слов «эон», «высший Христос» и «низший Христос», как и слов «Бог-сын» и «человек Иисус», называл Спасителя первым из творений, не исходящим от Бога, но действительно созданным, по единственной воле Бога, прежде времени и веков.58
Итак, эта единая теория творения составляет между Арием и гностиками одну из тех фундаментальных антитез, которые доказывают полное несогласие, но которые часто свидетельствуют о взглядах на опровержение или примирение между противоположными сторонами. Арий считал, что нашел способ удовлетворить и обезоружить всех участников борьбы. Ничто не было яснее его теории, и ничто, казалось, не отвечало лучше на все требования. Спаситель, согласно его учению, был одновременно достаточно высоко над людьми и достаточно близко к ним, чтобы быть посредником между ними и их Творцом.
Однако вопрос не был решен. В существующем виде он требовал точного объяснения божественной или человеческой природы Иисуса Христа; и Арий, избегавший в своей общей теории как гностицизма, так и ортодоксии, лишь в некоем промежуточном варианте нашел ответ Церкви, которая обвинила его в изменении ее веры.
По мнению Церкви, Иисус Христос имел ту же субстанцию, что и Бог59; по мнению некоторых раскольников, он имел ту же природу, что и человек. Арий принял теорию аналогичной природы60.
Пришел ли он к этой теории через гнозис, согласно которому Спаситель всегда присоединен к Высшему Существу в результате довольно большого числа эманаций, или же его привели к ней одни лишь ресурсы его гения? Мы не знаем.
Достоверно то, что Арий сначала защищался от любого сближения с гностиками, отвечая по собственной воле на подозрение, которое, как он знал, возникнет вполне естественно. В самом деле, в письме, сохраненном святым Епифанием, он тщательно отличает свои взгляды от мнений Валентиниана, Манеса, Иеракса и Сабеллия, что доказывает, что он изучал их.
Еще более решающим представляется то, что в своей антропогонии он очень близко подошел к гностикам. «Когда Бог решил создать человеческий род, – говорит он во фрагменте своей „Талии“61, – он создал существо, которое назвал Словом, Сыном, Софией, чтобы это существо дало существование человечеству. Это Слово, этот Логос – Ормузд Зороастра, Энсоф Каббалы, Νοῦς платонизма и филонизма, наконец, София или Демиург гностиков».
Арий также различал Софию-сына (низшую Софию) и высшую Софию.
Первая, по его словам, есть только в Боге; она присуща Его природе и не может быть передана никому.
Вторая же, через которую был сотворен Сын, была передана Ему, и именно за это Он сам заслужил имя Слова и Сына. Мы видим, что Арий заимствует здесь небесную Софию и земную Софию либо у некоторых гностиков, либо у более или менее мистических и диссидентских мнений своего времени. Если, таким образом, нельзя сказать, что он находился под влиянием гностицизма, и если, напротив, он боролся с его тенденциями, то, по крайней мере, следует признать, что он знал о них, и что эта система часто занимала его мысли.
Глава X. Аскетико-видовые школы. – Манихеи. – Теоретические принципы
Общая претензия всех диссидентов – иметь первичную и единственную ортодоксальную доктрину. Поэтому те секты, которые следовали исключительно аскетическому или спекулятивному направлению, в большинстве своем старались всячески замаскировать свое отпадение. И, как правило, они преуспели в этих усилиях до того, что более или менее быстро вернулись в лоно великой христианской общины.
С другой стороны, те, кто следовал как аскетическим, так и спекулятивным тенденциям гностицизма, даже преувеличивая их, отдалялись от Церкви настолько, что продолжали свое диссидентство до самого гностицизма и после него.
Таковы были на Востоке манихеи, а на Западе – прискиллиане, две секты, чьи доктрины сохранялись в течение всей борьбы и притеснений, постоянно возрождались в новых формах, то на Западе, то на Востоке, и лишь в конце концов угасли перед лицом возрождения философских и филологических исследований, начатого в тринадцатом веке и завершенного в пятнадцатом.
Как и монтанисты, манихеи сделали мораль или аскетизм основным предметом своей заботы. Однако они добавили самые смелые спекуляции в вопросах догматики. Мы находимся с ними на совершенно особой местности, и хотя вскоре мы увидим, как прискиллианисты выходят из египетского и сирийского гностицизма, манихейство ставит нас на ступень евфратианского гнозиса, то есть гнозиса, взятого из его первобытного источника.
Основатель секты Манес до принятия христианства жил среди волхвов Персии и отличился в их рядах своими обширными знаниями. Восточные писатели приписывают ему удивительные познания в астрономии, медицине, музыке и живописи.
С другой стороны, он, по-видимому, пользовался трудами Скифа, иудаизирующего каббалиста или гностика, который, должно быть, жил в его время и был знаком с доктринами Бардесана и Гармония. По мнению других, Скиф жил во времена апостолов; Теребинт или Будас отнес его труды в Ассирию, где с ними и познакомился Манес.62
Манес смог найти элементы гностицизма повсюду, как среди христиан Персии, так и Сирии; и где бы он ни получал семена своего учения, это учение полностью отличалось от того, что ему предшествовало. С этого момента вопрос о том, как он познакомился с египетским гностиком Скифом или каким-то учеником Бардесана, становится второстепенным.
Вероятность сообщаемых фактов об отношениях Манеса со Скифом и Бардесаном заключается в том, что они объясняют систему Манеса.
Однако эта система, объясненная теми, кого изучал ее автор, не похожа на них, и Манес не был бы ни отвергнут христианской церковью, ни преследуем при дворе Шапура, если бы он все же исповедовал собственную доктрину.
Но что послужило причиной его учения? Было ли это честолюбие? Эклектизм?
Вероятно, амбиции, самозванство и энтузиазм сыграли свою роль в его учении, но определить степень влияния каждого из этих элементов невозможно. Что касается его плана объединить самые могущественные верования своего времени – плана, который также приписывается Мухаммеду и который был бы более достоин современного ученого, чем перса или араба третьего или седьмого века нашей эры, – то он, конечно, не был мотивом для его спекуляций.
Существует множество древних источников и современных работ, посвященных этим рассуждениям. У нас есть сочинение Манеса под названием Epistola fundamenti63; послание Манеса, сохраненное святым Епифанием64; фрагменты других сочинений, собранные Фабрицием65; сочинение Фаустуса, сохраненное святым Августином66; опровержение Манеса, написанное Титом Бострским67; акты, несомненно, сильно измененные, но не полностью предполагаемые, о споре между Архелаем и Манесом6.68
Восточных писателей69 можно сравнить с основными греческими авторами, Евсевием, Сократом, Кириллом Иерусалимским, Епифанием и т.д., о Манесе. Среди современных авторов наиболее обширные исследования этой доктрины посвятили Байль, Тиллемон70, Вольф71, Бособр72, Мосхайм73, Вальх74 и Фуше.75
Источниками, из которых черпал Манес, были, несомненно, зороастризм, как он тогда преобладал в Персии; христианство, как оно было ему преподано; и гностицизм, как он появился повсюду в христианском обществе.76
Однако Манес приписывал себе и другие светила. Монтан называл себя вдохновленным Παράκλητος, возвещенным апостолам; Манес сам называл себя этим Параклетом. Слово Параклит он воспринимал в смысле врача, органа Божьего, а не в смысле Пневмы или Святого Духа. Знаменитое послание, в котором Манес изложил принципы своей системы (Epistola fundamenti), начиналось так: Манес, апостол Иисуса Христа, избранный Богом-Отцом. Это слова спасения, исходящие из живого, вечного источника».77
Как и большинство гностиков, он приписывал себе высокое превосходство над апостолами, которым Иисус Христос, по его словам, сначала решил послать Параклита, но которых впоследствии признал непригодными для последнего откровения, предназначенного для рода человеческого.
Как и гностики, Манес стремился очистить христианские доктрины, освободив их от изменений, которым они подверглись, и добавить к ним недостающее развитие. Как и гностики, он оценивал священные кодексы иудеев и христиан с точки зрения теософии, независимой от какой-либо критики, и, как и они, создавал кодексы в соответствии со своей собственной доктриной.
Он отверг весь Ветхий Завет как работу второстепенного божества. Из Нового Завета, который, по его мнению, был изменен иудаизмом, он сохранил только то, что соответствовало его цели.
Во время своего изгнания он составил Евангелие, которое дополнил аллегорическими рисунками и которое, по его словам, упало с небес.
Эти аллегорические рисунки напоминают рисунки каббалистов и Офитов, которым они, несомненно, подражали. Утверждается, что именно благодаря этому произведению, которое персы называют Эрсенки-Мани, Манес соблазнил царя Ормисдаса.
Весьма вероятно, что при составлении этого кодекса он не ограничивался истинно евангельскими доктринами, как и в своем учении. Он понимал откровение в самом широком смысле и приписывал мудрецам и пророкам язычества столь возвышенные откровения, что предпочитал их откровениям иудеев.
Идея, доминирующая во всей его системе, – это пантеизм, который в большей или меньшей степени пронизывает все школы гнозиса, но который он почерпнул из других мест, и, несомненно, из его источника в регионах Индии и на границах Китая, по которым он путешествовал, чтобы удовлетворить свою страсть к теософским спекуляциям. По его мнению, причина всего сущего – в Боге; но, в конечном счете, Бог – во всем. Все души равны; Бог есть во всех них. Это одушевление не ограничивается людьми и животными; то же самое происходит и с растениями.78
Это пантеизм, но он модифицирован древним дуализмом Азии. Мы видим, – говорит он, – во всех земных существованиях: здесь зло, там добро. Бог добра не является автором зла, бог зла не является автором добра; это два независимых, вечных бога, главы двух разных империй. Они обязательно и по самой своей природе являются врагами друг друга.
Этот дуализм, которому не предшествует никакая идея монотеизма, примечателен. Он существенно отличается от учения Зороастра, в котором появляется идея неизвестного Отца, бесконечного бытия, безграничного времени, Зеруане-Акерене, которую Манес полностью отвергает.
В Персии две оживленные партии – ибо в богословии, как и в политике, фракции столь же яростны – оспаривали вопросы дуализма и тритеизма, укрытые неясностью Зенд-Авесты.
Одна из этих партий, магусы, поддерживала догму чистого дуализма. Именно к этой секте примыкал Манес. В то же время он сблизился с дуализмом Бардесана и с системой Маркиона о добром и злом боге. В его глазах это было согласие тем более желательным, что он больше любил Сирию, с которой его сближало место его рождения.
Определяя две империи и характеризуя двух богов, Манес проявляет себя как маг, зороастриец и гностик. Символ доброго бога – свет, а его владения – империя всего чистого; злой бог управляет империей зла и тьмы.
Согласно Зороастру и магам, принцип зла, Ахриман, – это деградировавший Разум, связанный с материей; в то время как, по мнению Манеса, злой бог, Сатана, – это просто гений материи.79