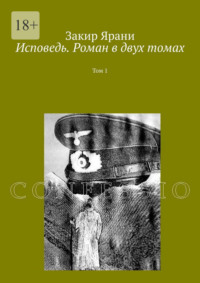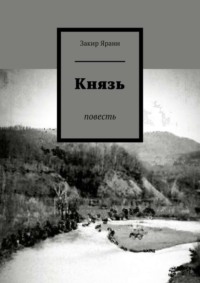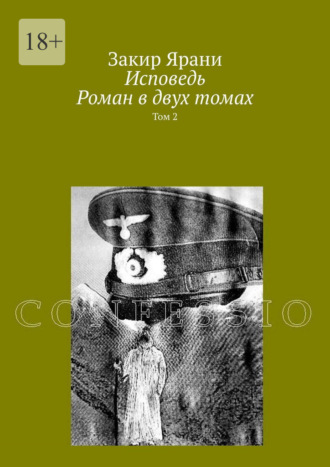
Полная версия
Исповедь. Роман в двух томах. Том 2
Используя тактику устрашения сходу, Тим не стал самолично проводить первый допрос дочери и матери Кореневых, чтобы раньше времени не вызвать у тех слишком резкой неприязни, а отправил допрашивать женщин Эмана – старшего полицейского секретаря, поступившего в его команду после отбытия под Сталинград Веделя. На первом допросе Степанида Коренева ничего не показала, говорила, что ничего не знает и отвечать не хочет. Ее мать сначала тоже отговаривалась, обвиняла вспомогательных полицейских в том, что те подложили им в квартиру газеты, но когда по указанию Эмана казаки из тюремной бригады принялись сечь Степаниду плетьми в присутствии матери, та обвинила во всем некоего Ваську – друга Степаниды, часто бывавшего в их квартире, когда-то состоявшего в Комсомоле, потом выбросившего комсомольский билет. По мнению Кореневой-старшей, именно этот Васька мог склонить ее дочь к вредительству немецким властям.
Получив отчет Эмана, Тим связался с политическим отделом хипо и велел установить негласное наблюдение за Кореневой-старшей, после чего позвонил в тюрьму и распорядился освободить мать подпольщицы. Затем навел справки и выяснил, что некий Василий Сотников учится вместе со Степанидой, и он, действительно, еще до вступления немецкой армии в Ростов неизвестно по какой причине ушел из Комсомола. За Сотниковым также было немедленно установлено негласное наблюдение. Тем временем русские сыщики, наблюдавшие за матерью Степаниды, отправившейся на рынок покупать передачу в тюрьму для дочери, увидели, как возле рынка к ней подошел очень молодой человек, о чем-то с ней переговорил, и женщина весьма громко обвинила его и еще кого-то в том, что Степанида сейчас под следствием. Один из сыщиков незаметно отправился вслед за тем парнем, и через час тот привел его к квартире, где жил Василий Сотников, после чего вошел внутрь. Затем вышел обратно и отправился, как оказалось, уже к себе домой на юго-восточную окраину города; хипо проследил за ним, и по открывшемуся адресу удалось установить его личность: это был шестнадцатилетний Анатолий Мухин. В течение следующего дня ничего подозрительного в поведении ни Кореневой-старшей, ни Сотникова, ни Мухина замечено не было: женщина относила передачу дочери в тюрьму, Сотников занимался в училище, Мухин был на мобилизационных работах по расчистке улиц. Агентам политического отдела хипо тем временем удалось как бы невзначай побеседовать с разными знакомыми этих находившихся в оперативной разработке людей. Оказалось, что Сотников раньше был убежденным приверженцем идеологии Маркса и Ленина, в Комсомол вступил не ради всяких социальных льгот, как делали при большевиках многие русские молодые люди, а по искреннему желанию, но покинул ряды коммунистической молодежной организации из-за крупной ссоры с каким-то ее руководителем. У Мухина же отец был офицером-красноармейцем, служил где-то на советской границе и погиб в июне 1941 года в результате наступления немецкой армии.
Тим посовещался с директором, и оба они пришли к выводу, что Сотников был, без сомнения, тайным большевистским агентом, которого подполье, зная о его в целом глубокой приверженности марксистскому учению, решило использовать в своей деятельности. Мухин, конечно, был озлоблен на немцев за смерть своего отца, поэтому тоже охотно присоединился к подполью. Также директор предположил, что подпольщики наверняка уже успели незаметно для вспомогательных сыщиков дать знать соратникам об аресте Кореневой-младшей, и остальные члены организации или организационной ветви залегли на дно, поэтому посчитал нужным не тянуть с арестом тех, кто был уже выявлен. Дождавшись, когда Мухин снова явится в квартиру Сотникова, Тим отдал распоряжение об их аресте там же, а также об аресте всех взрослых лиц, проживавших с ними на одной жилплощади. Так в тюрьму, кроме Сотникова и Мухина, были еще доставлены оба родителя первого и мать второго. В квартире, где проживал с родителями Сотников, было при обыске обнаружено еще несколько экземпляров коммунистических газет «Известия» и «Комсомольская правда».
Первый допрос снова проводил Эман. Несмотря на внушительные жесткие меры воздействия, оба юноши отрицали свою причастность к подполью, хотя Сотников вроде начинал слабо поддаваться, говорить, что газеты попросил его подержать у себя некто Романов, работающий на вокзале, и что сам он эти газеты не читал, разочаровался в коммунистических идеях, потому и ушел из Комсомола. Проверка, однако, показала, что этот Романов был просто выдуман подследственным. Родителей подпольщиков жестким методам допроса не подвергали, хотя некоторое словесное давление было на них оказано, впрочем, по всему было видно, что старшие Сотниковы и Мухина, действительно, не имели представления о том, чем занимались их сыновья, хотя и не выказывали никакого раскаяния за своих коммунистических отпрысков, грубили полицейским и грозили тем некой скорой, правда, неопределенной, карой. Снова посовещавшись с директором, Тим распорядился отпустить родителей подпольщиков под тайное наблюдение.
И вот теперь Тим прибыл в тюрьму для самоличного допроса молодых людей. После нескольких дней в тюремных стенах у них должен был наступить период апатии и тоски по свободе, по солнцу и свежему воздуху, по близким и друзьям, и у них было достаточно времени, чтобы подумать, стоит ли дело, которое они себе выбрали, таких жертв. И первой перед Тимом сидела Степанида Коренева, у которой было найдено основное количество изъятых коммунистических газет.
– Как ви себйа чууствойте? – спросил Тим у избитой и растрепанной, но все равно красивой, девушки.
– Какая вам разница? – невнятно проговорила, точно выдавливая слова из-под смыкавшихся губ, юная подпольщица. – Вы доктор, что ли?
– Ви полючат подарки от ваш мат?
– Я всё получаю, – ответила Коренева, потупив глаза.
– Sehr gut! – проговорил Тим. – Ми начнем наш разговор. Да?
– Мне все равно нечего вам сказать, – будто с робостью, не поднимая глаз, но все же твердо ответила девушка.
– Почему ви не хотит говорит со мной? – спросил Тим.
– Мне просто нечего вам сказать, – повторила уже более решительно Коренева.
– У вас йест што мне говорит, – мягко, но упорно возразил Тим. – Ваш Quartier биль много газет от Коммунисти-чески партиа. Ви один… одна из люди, кто распространйат эти газета в город. Эти газета очен новийе… они очен недавно из печат. На наша сторона kommunistische газета не печатат. Где ви эти газета взйали?
Девушка молчала, чуть склонив вперед голову со спутанными волосами, и нервно мяла пальцами беспуговичные края бортов рубашки на груди.
– Ви понимат менйа? – поинтересовался Тим. – Или надо казат перевоччик?
Девушка не отвечала, Тим видел только, как еще сильнее стали сжиматься и вновь расслабляться, будто перетирая что-то во рту, ее губы.
– Ви всйо понйали! – уверенно констатировал Тим, откидываясь на спинку кресла, в котором сидел. – Ви не хотите одат нам ваши товариши или не хотите делат нам помош просто? Да, ми фашисти, ми войеват за traditionelle… э-э… System. Но ви не правильно думат, што traditionelle System это плохо. Ви молодайа, ви не знат шизн до kommunistische Revolution, но комунисти вас обману́т. До kommunistische Revolution не биль… э-э… гóлёд, красни Terror, рабство от комунисти. Ми войеват против комунисти – поэтому ми приходили ваш страна. Ми хотим убират комунистически власт… штоби гóлёд, красни Terror и рабство больше не билё. Но пока идйот война ми дольшен войеват против любой враг. Ви помогат комунисти – значит, ви тоше враг. Ви молодайа, длйа чево вам надо войеват против Germania? Буд мирнайа – и ми будем мирни до вас!
Коренева по-прежнему молчала, сидела на привинченном к полу стуле с высокой спинкой и слабо покачивалась взад-вперед. Переводчик Репьев сидел на стуле рядом с Тимом, от долгого безделья обмякнув и прикрыв глаза, будто задремав.
– Ми не звери совсем, – продолжал Тим убеждать подследственную. – Ми не хотим, штоби ви умирали. Покаши нам, што ви не хотите дольше войеват против Germania. Говорите, кто даль вам эти газети, – Тим выпрямился, сидя в кресле. – Ви всйо чесно говорите – и ми не думат, што ви длйа нас враг. По ваш дело вам будет наказанийе – ви будете Lager делат Strafarbeit времйа, сколько дават вам суд, затем ви будете свободнайа. Ви понимайете менйа?
Девушка будто сильнее сжалась на стуле и снова ничего не ответила.
– А йесли ви мольчите, – продолжал Тим. – то по наш приказ ви длйа Germania враг. Наш Kommandantur тогда дольшен одат приказ растрелйат вас, – помолчав, он добавил:
– И это дело не в мой власт: йа только веду следствиэ… Ви мне показат, кто даль вам газета, и йа писат, – он выразительно поводил сухим пером ручки по бумаге. – што ви дат показанийе – ви не враг длйа нас. Йесли йа не писат – ви будете как враг – и Kommandantur вас растрелйат. Говорите мне, што би́лё, кто даваль вам газета, штоби йа мог писат это!
Коренева так и сидела, сжавшаяся, растрепанная, с синяками на своем картинном девичьем лице, и молчала, слабо покачиваясь на стуле.
– Идйот война, – сказал Тим. – Kommandantur дольго шдат не будет. Йесли ви будете упрйамайа – ви дольго не будете шит. Tribunal нет, показоват… Gerichtsurteil не будет. Ви один рас ходит… из ваш Kamera… не знат, куда – и вас растрелйат. Спасайте свой мóлёдост и шизн, не давайте Germania йешо рас убиват челёвéка! Ми тоше не хотим убиват! Говорите, кто даль вам газета?
Тим не блефовал: ввиду резко возросшей активности антинемецких сил в тылу и нехватки средств на содержание заключенных поступил верховный приказ о казни всех арестованных партизан и подпольщиков, которые в течение установленного для следствия срока не дают исчерпывающих и правдивых показаний. Вести долгое расследование, планомерно выявлять и изобличать целые подпольные организации в сложившейся обстановке уже не представлялось возможным, и руководство армии и СС теперь предпочитало хотя бы подрывать силу и организованность подполья простым уничтожением выявленных участников того, заодно эффективнее устрашая местных жителей, которые еще не успели совершить каких-либо действий против немецких армии, власти или союзников, но были склонны к этому. О данной стратегии Тим уже слышал от шефа зондеркоманды Кюбека во время командировки на Кавказ.
– Ви мольчите, – вздохнул Тим, и, продолжая поигрывать ручкой, снова откинулся на спинку кресла. – Йесли ви не будете говорит несколько ден йешо – ви убиват сйэбйа так. Йа предупрешдаль вас! Думайте о ваша молодост, о ваши роднийе люди, о ваш шизн… што у вас на переди польни… у вас йест времйа делат всйо хороши способ и шит на шастйе. Но ви, пока вас не растрелйат, дольшен говорит мнйе, кто даль вам газети! Или ви сйебйа не спасат!
Коренева молчала.
– Девушка думает, что своим молчанием она спасет своих друзей! – как бы невзначай сказал Тим уже почти уснувшему рядом на стуле переводчику Репьеву по-немецки. Тот разом встрепенулся и, посмотрев на Тима, спутанно проговорил:
– Д-да…
– А ее друг Анатолий Мухин наверняка будет сговорчивее, – продолжил Тим, открыто обращаясь теперь к переводчику. – он-то уж точно не идейный коммунист, а просто наивно решил свести с нами счеты за своего отца-офицера. Так ведь, дорогой друг?
Коренева, ничего не поняв, конечно, по-немецки, но услышав знакомые имя и фамилию, встрепенулась на арестантском стуле: ведь она еще не знала, что Мухин и Сотников арестованы, причем на Мухина и ее мать при первом допросе не указывала.
– Да, вы правы! – ответил Тиму Репьев, еще плохо соображавший, о чем идет речь.
– Мухин – коммунистический сынок, его давно следовало бы отправить в Люблин, в лагерь, – продолжал Тим будто бы разговаривать с переводчиком. – но сначала надо выяснить у него всю известную ему информацию по этим проклятым газетам.
– Будем сегодня его допрашивать? – спросил Репьев.
– Обязательно! – кивнул Тим. – Какие все-таки у вас, русских, простите, тяжелые для произношения имена! – и как мог отчетливее, чтобы подследственная слышала, выговорил:
– Анатолий Мухин!
Девушка невольно приподняла голову, обрамленную пышными спутанными волосами. На ее красивом, несмотря на синяки и бледность, лице появилось мучительное выражение. Вероятно, она думала, не ослышалась ли, не в руках ли немцев находится ее юный друг, и если да, то не выдал ли кто-нибудь его немцам. И не сам ли Мухин оказался провокатором, выдавшим ее. Если все так – это ведь горе, предательство, позор, а главное, ей теперь никак не отвертеться от обвинений, раз кто-то сдал ее с потрохами, да и других ее приятелей, наверняка, тоже выдал. И впереди – конец всему. Тогда Тим перешел в более решительное наступление и снова задал Кореневой вопрос:
– Не Мухин, ваш друг, даль вам газета? Так? Мухин молёдóй. Кто даль вам газети?
– Откуда вы его знаете? – не выдержав, произнесла девушка.
– Ваш друг Сотникоф говориль, – вывалил Тим на подследственную следующую шокирующую информацию. Теперь девушка будет думать, что Сотников выдал всю их компанию, и конечно, рассказал все и про нее тоже.
– Мама, зачем ты сказала им!.. – мучительным полушепотом проговорила Коренева, прикрыв глаза и сначала чуть вскинув, затем снова опустив голову. Она явно думала, что это ее мать указала на Сотникова, а тот, не выдержав на допросе, все выдал. Затем опять подняла голову и уже другим – сквозящим лютой злобой, взглядом посмотрела на Тима.
– А где он теперь?
– Кто? – спросил Тим.
– Толик, – ответила девушка.
– Пока полицейски управлениэ, – ответил Тим, не желая сообщать подследственной, что ее подельник тоже находится в этой тюрьме.
Коренева, снова прикрыв глаза и напрягши мышцы лица, издала какое-то злобно-отчаянное мычание.
– Это ваш Kavalier? – спросил Тим. Девушка широко раскрыла светло-голубые глаза, вспыхнувшие яростью.
– Скоро Красная Армия покажет вам кавалера, фашистские мрази! – вдруг визгливо заорала она, и голос ее гулко отдался в высоких стенах допросной камеры. – Душегубы!.. Убейте всех нас, но вы ничего не узнаете!.. Не взять вам нашей земли!.. – она начала всхлипывать, и на прекрасном лице ее заблестели слезы. – Убирайтесь в свою Германию! Здесь вы пропадете!.. Все пропадете!.. – она зарыдала на несколько секунд, а затем замолчала и уставилась в свои колени.
– Пейте вода! – сказал Тим, из стоявшего на столе с левой стороны графина налил воды в стакан и протянул девушке.
– Уберите свою руку! – злобно выговорила она, вскинув голову и тряхнув распущенными в беспорядке, как у русалки, светлыми волосами.
– Хорошо, – сказал Тим и отставил стакан. – Йесли ви говорит всйо што биль, ви помогат сйебйе и ваш друзйа. Йа обешайу вам.
Коренева покачала головой. Плечи ее нервно вздрагивали, губы что-то беззвучно лепетали.
– Нет… – наконец, проговорила она. – Нет… не скажу ничего…
– У вас йест несколько ден, штоби думат по другой, – спокойно проговорил Тим и нажал на кнопку вызова конвоя. – Думай! Спасите сйебйа и ваши друзйа! Когда будйет растрель – ничево не делат!.. Позно!
Лязгнул замок, скрипнула тяжелая металлическая дверь, и в помещение, гулко стуча сапогами, вошли двое конвойных.
– В камеру! – приказал Тим. – И ведите сюда Мухина.
– Есть!
– Есть! – ответили конвойные и подошли к девушке.
– Встать! – приказал старший. Покачиваясь и все придерживая распахивавшуюся на груди рубашку, Коренева встала.
– Вперед! – конвоир подтолкнул ее в сторону открытой двери. Девушка направилась к выходу, ступила в тюремный коридор; за ней вышла и охрана.
– Теперь послушаем, что следующий скажет, – произнес Тим, обращаясь к Репьеву.
– Да! – согласно кивнул тот.
Достаточно быстро конвойные вернулись и ввели в допросную камеру Мухина со скованными за спиной руками. У стола отстегнув ему один наручник, юношу посадили на стул подследственных и вновь заковали руки уже за спинкой стула. Мухин обмяк, полусогнувшись и косо склонив голову, в то же время слабо пытаясь глядеть на Тима и Репьева. Это был светловолосый худощавый подросток с еще выраженными детскими чертами бледного изможденного лица, одетый в мятую и полностью расстегнутую рубаху зеленого цвета и серые брюки. Оставив подследственного перед столом, за которым сидели Тим и переводчик, охранники вышли, закрыв за собой стальную дверь.
– Мухин, ви впорйадке? – спросил Тим, видя, что подследственный совсем обессилен.
– Мне плохо… – пролепетал Мухин. – Позовите врача…
– Хорошо! – сказал Тим и, сняв трубку телефона внутренней связи, попросил тюремного дежурного вызвать в камеру врача из лазарета. Вскоре снова лязгнул замок, стальная скрипучая дверь отворилась, и в полутемное помещение вместе с охранниками вошел в белой спецодежде врач с медицинским чемоданчиком.
– Что случилось? – с готовностью приступить к своему делу спросил он.
– Сделайте так, чтобы этот молодой русский человек мог бодро отвечать на вопросы, – велел Тим, кивком указав на обвисшего на стуле Мухина.
– Разрешите! – медик поставил чемоданчик на стол перед листами бумаги.
– Пожалуйста! – Тим чуть отодвинул листы назад.
Охранники расковали Мухина, и врач через шприц ввел что-то в вену юноше. Тот дрогнул веками, заморгал глазами и, тяжело вздохнув как простонав, сел на стуле несколько прямее.
– Не надо его заковывать! – сказал Тим охранникам, махнув рукой. – Все равно вряд ли он сейчас в боевом состоянии.
– Есть! – ответил старший охранник.
Врач и охранники вышли, дверь вновь закрылась. Мухин сидел, обессилено склонившись набок, часто дышал и мутным, но озлобленным взглядом из-под приподнятых век смотрел на Тима.
– Кто вы? – тяжело выговорил он.
– Йа Feldpolizeikommissar, – ответил Тим. – Йа веду ваше дéлё о свйаз со преступнайа группа. И ваши подйельники Сотникоф и Корйенйева.
Изможденный подросток промолчал, закрыл глаза и опустил голову.
– Они говорйат нам разнойе, – Тим снова перешел к блефу, чтобы создать у этого юнца впечатление, будто его товарищи уже все рассказывают, и ему бессмысленно отпираться. – кашди показат на другой. Сотникоф говорит, Корйенйева сама полючат комунистически газети и носи́т йево Quartier, а Корйенйева говорит, полючат газети от Сотникоф. И йешо много они говорили, но не всйо йасно.
Мухин издал тяжелый стон.
– Ваше самочуствиэ опйат плёхóй? – с деланным участием спросил Тим, наклонившись чуть вперед – к подследственному. Снова приоткрыв глаза, юноша ответил:
– Можно мне в камеру, где есть, где лежать… Я в своей могу только сидеть… в ней даже ноги не вытянуть… У меня все болит… один ваш… когда нас взяли… приказал меня бить… у меня кожа пооторвалась сзади, и никто меня не лечил… Я уже столько дней в камере сижу на полу, а лечь не могу, потому что места нет… и там холодно…
– Йа буду говорит Kommandant от эта тюрма о болейе хороший место длйа вас, – сказал Тим, кивнув. – Хотите вода? – он подвинул к подследственному наполненный водой стакан, который отказалась принять Коренева. Трясущейся от слабости рукой юноша взял стакан, поднес, согнувшись, к губам, отпил несколько глотков, закашлялся, потом еще дважды сглотнул и, опустив стакан на стол, обессилено откинулся на высокую спинку допросного стула.
– Ви думат, што ми злёйе звери, – Тим начал повторять Мухину то же, что говорил Кореневой. – Вам так говориль комунистически Agitator. Ми не злёйе люди. Ми войеват против комунистически партиа, потому што она делайет злё наша страна. Ви не шиль врйемйа до kommunistische Revolution, ви знат о то врйемйа только от Agitatoren. Комунисти вас обмановали: то врйемйа биль хороший врйемйа. Росиа биль не гóлёд, бйез красни Terror, бйез рабство от комунисти. Ви менйа понимайете?
– Понимаю, – глухо произнес юноша, чуть двинув светловолосой головой.
– Ми ходили ваш страна только потому што ми война делайем против комунисти… по другой они нам тоше будут делат гóлёд, Terror и злё. Ми побешдайем комунисти – и ваш страна будет опйат сити и свободни. Но идйот война, и наш Kommandantur дольшен знат все люди, кто помогат комунисту, как враг. Йесли ви помогат комунисту – ви тоше враг. Против враг наш Reich дольшен зло срашаца. Ми не плёхóйе люди, и йесли ви показойте длйа нас, што ви не враг, ми будем длйа вас menschlich… э-э… хорошо… Ви говорите нам, кто говориль вам ходи́т до мат от ваша подруга Корйенйева у ринок, и што ви говорили длйа этот шеншина. Тогда ми будем вйерит, што ви не враг. Ви будете имйет наказаниэ по ваш дéлё, но ви молодой, наказаниэ строги не будет. Ви йехат Lager in Lublin делат Strafarbeit времйа, сколько дават вам суд, затем ви будете свободни. Переведите ему, – обратился Тим к Репьеву по-немецки. – если он правдиво расскажет, кто посылал его к матери Кореневой возле рынка, и что велел ей передать, то он докажет, что не является для нас врагом. В таком случае с ним обойдутся по суду и, учитывая его молодость, строго не накажут. Он отбудет штрафные работы в лагере в Люблине и затем будет освобожден, вернется в свой город и сможет зажить честно и спокойно.
Репьев довольно равнодушным тоном перевел юноше слова Тима. Затем Тим заговорил, снова обращаясь к переводчику:
– Но если он честно не скажет, кто послал его к матери Кореневой, и что велел передать ей, наша комендатура будет вынуждена считать его врагом – соответственно приказу, и тогда он просто будет расстрелян как военный противник. Разъясните ему, что я просто веду следствие, и если я запишу его правдивые показания – на их основании суд вынесет мягкий приговор. Если же мне нечего будет записать – комендатура уже без всякого суда отправит его под расстрел. Тогда он даже не узнает время казни: просто в один день его выведут из камеры и расстреляют. Пока он может, он должен спасти себя и своих друзей, рассказать честно все, как было.
Репьев снова перевел Мухину. Юноша слабо качнул поникшей головой:
– Я же сказал… Я правду говорил вашим людям, клянусь… Я просто спросил у Фени, что со Стешей – и всё… Почему вы мне не верите?
– Потому што ви говорите не правда! – без угрожающей интонации, но прямолинейно проговорил Тим. И снова обратился к переводчику:
– Объясните ему так: его друзья уже рассказали, что он тоже помогал им в их делах… Они испугались, что он не выдержит и расскажет о них раньше. Коммунистические активисты только на словах герои, а когда приходит время расплачиваться – никто из них не торопится приносить себя в жертву. Мне только надо устранить противоречия в их показаниях и узнать, кто конкретно отправил этого мальчика к матери Кореневой.
Репьев перевел Мухину. Юноша простонал и, приподняв голову, измученным взглядом посмотрел на Тима. Тим сразу уловил, что парень сейчас в сомнениях: подросток догадывался, конечно, что Тим может блефовать, и никто из приятелей его не выдавал, но был еще наивен и внимательно воспринимал убедительно выверенную речь, а желание хоть как-то облегчить свое положение после жесткого допроса Эманом и нескольких дней в строгой камере подталкивало его против воли поверить обнадеживающим словам Тима. Наверняка он уже не раз пожалел, что поддался бессмысленному искушению отплатить немцам за погибшего отца, тем более, вряд ли он сам лично успел нанести своим врагам какой-либо существенный ущерб, но он, конечно, не хотел становиться предателем в глазах друзей или опасался, что если он выдаст кого-либо, еще не попавшего в руки полиции, тот будет убит. Однако юноше, несомненно, и самому хотелось жить: шестнадцать лет – не слишком подходящий возраст для завершения жизненного пути. Если в бою нет времени думать о смерти, то в тюрьме – предостаточно.
– Обманывают они… – произнес Мухин.
– Ваш друг говорйат не правда о вас? – с деланной иронией переспросил Тим.
– Неправду, – Мухин снова обессилено склонил голову.
– Хорошо, – нарочито злорадно усмехнулся Тим. – Ми сечас зват их сйуда, – он поводил в воздухе пальцем, как бы очерчивая допросную камеру. – и спрашиват, почему они говорйат против ви… э-э… лёшни слёво… почему они говорйат, што ви их подельник, а ви… чисти челёвéк. И ви сам их спрашиват, почему они о вас говорйат не правда! – Тим снял трубку телефона внутренней связи, поднес к уху. И обратился как бы между делом к переводчику:
– Скажите молодому человеку, что сейчас будет очная ставка. Если ему есть, что сказать, до ее начала, пусть говорит. Если сейчас его приятели расскажут все до него – ему уже трудно будет оправдаться, а мне со своей стороны – спасти его жизнь.
Репьев, придав голосу категоричной суровости, перевел Мухину. Тим же связался с командиром внутренней охраны тюрьмы и предупредил, что скоро закончит допрос Мухина, чтобы конвой был готов доставить в допросную камеру Сотникова.
– Конечно, герр комиссар! – ответил командир охраны, удивленный, зачем Тиму понадобилось делать дополнительные предупреждения, когда и так было понятно, кого вести на допрос следующим. – Все уже готовы.
– Ждите моего звонка! – приказалл Тим.
– Есть! – ответил собеседник на том конце провода, и Тим повесил трубку.