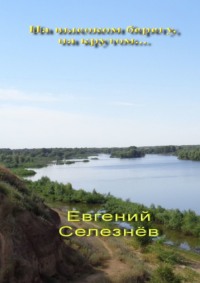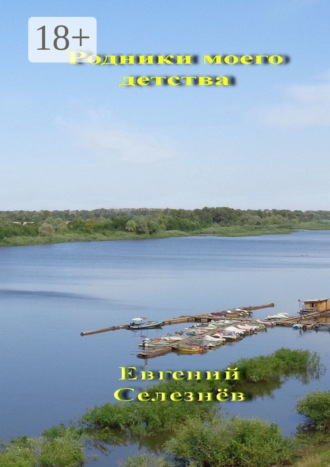
Полная версия
Родники моего детства. Легенды Нижнего Поволжья
Ранее, в одном из своих рассказов, я уже упоминал, что именно с «лёгкой руки» моего отца, появилось у старого перевозчика прозвище – Дед Щукарь. Как-то задержали одного преступника в станице Вёшенской, а он проходил по ряду криминальных дел в нашем районе и был объявлен в розыск. Поэтому моему отцу пришлось ехать в Вёшенскую и этапировать его для расследования и суда над ним. В станице отец с коллегами не могли не посетить знаменитого писателя-фронтовика Михаила Шолохова, который подарил моему отцу один экземпляр «Поднятой целины» с дарственной надписью.
Долго эта книга была у нас дома и все хотели её почитать, так и «зачитали» – просто кто-то не вернул её назад. В один из дней, после поездки на наши бахчи, когда все мы переплывали на лодке с острова Петрикова, мой отец и сказал перевозчику: «…Константинович, ну ты прям настоящий Дед Щукарь из „Поднятой целины“…».
Расстояние до противоположного берега не близкое, да ещё и в разлив, солнышко ещё не поднялось так высоко, чтобы обжигать нас своими лучами, самое время для неторопливой беседы. «Кем хочешь стать?» – спросил меня Михаил Иванович. «Милиционером, как мой папа» – ответил я. Немного подумав и посмотрев вокруг, Михаил Иванович дал мне совет: «Нет, сынок, самые тяжёлые в наше время профессии – это милиционер и хирург! Отец твой сутками на службе, я тоже в больнице, да и когда дома, то всё равно переживаю за каждого больного. Лучше подбери себе более спокойную профессию!».
Тут в нашу беседу вступил, ранее молча пускавший дым папиросой Дед Щукарь: «А знаешь ли ты, сынок, фонтан у летнего кинотеатра „Мир“?». «Конечно, мы там с братом Валерой часто купаемся, после того как накатаемся на велосипеде в жару» – ответил я. «А знаешь, что было раньше на месте этого фонтана? – продолжил старик. – На этом месте раньше стояла церковь, а под ней склеп с мощами трёх монахов». «А куда же они делись?» – спросил я. Старик немного помолчал, раскурил потухшую на ветру папиросу и продолжил свой рассказ.
«Было это глубокой осенью, когда жёлтая листва с деревьев падала влажными хлопьями, темнело тогда рано, да и время тогда было тревожное, предвоенное. Мы только, с моей бабкой садились ужинать, чем бог послал, а тут стук в калитку» – на некоторое время замолчал дед, будто собираясь с мыслями.
«На улице уже темень, рядом с домом разбитая ещё при ликвидации банды Орлика церковь, – продолжил старик, – выхожу за калитку, а там стоят четверо в военной форме и говорят мне, типа нужна Ваша помощь в одном деликатном деле без лишних свидетелей. А что оставалось делать мне? Пошёл я с ними в сторону темневшей среди деревьев церкви».
Выровняв на течении лодку, старик продолжил свой рассказ: «У развалин церкви ожидал нас незнакомый мне кучер с уже запряжённой в телегу лошадью. В телеге лежали четыре вырванные с окон кованые решётки поверх каких-то коротких брёвен, накрытых мешковиной и несколько штыковых лопат. Один из военных, предложил мне проследовать с ними в район кладбища, там помочь им разгрузить содержимое телеги». «После короткого совещания, мы медленно двинулись в сторону рыночной площади, где старший покинул нас, бойко взбежав по высоким ступенькам Углового магазина, перед этим тихо предложив сжечь, чтобы долго не мучиться, содержимое за околицей села – негромко говорил перевозчик, будто заново вспоминал пережитое. – Только здесь, при свете уличного фонаря у магазина, рассмотрел я петлицы войск НКВД».
Медленно надвигался на нас противоположный берег, уже ясно слышался шелест листьев прибрежного тальника, а дед продолжал: «Молча мы проехали за край села в сторону „чумного“ бугра на сельском кладбище. Телегу оставили у края кладбища, а сами прошли чуть глубже, выискивая место под захоронение. Ещё при движении по рыночной площади, я случайно, под сползшей от тряски мешковиной увидел, что это не поленья, а мощи трёх монахов в облачении. К моей большой радости никто из военных не согласился с предложением старшего просто сжечь их. Найдя относительно свободное место, мы вырыли при свете луны яму, куда аккуратно положили мощи монахов, покрыли их мешковиной и засыпали землёй. Место захоронения оградили коваными решётками с окон часовни, а вместо памятника положили квадратный камень, найденный поблизости. После сделанной работы один из военных вручил мне за труды простенькую старинную икону, которая теперь бережно хранится у моей бабки».
Теперь, в прошествии стольких лет, я вспоминаю эту загадочную могилу на старом городском кладбище, не раз вызывавшую у меня неподдельный интерес, своим необычным видом. К большому сожалению, где-то в начале двухтысячных годов, после обустройства и расширения железнодорожного полотна, проходящего рядом, эта могила исчезла. Недалеко от этого места находится сейчас могила моих родителей.
Кем были те монахи, доподлинно не известно. У меня есть предположение, что они были священниками Стародубского полка, Бакланская сотня которого, после Указа императрицы Екатерины Второй от 1782 года, была отправлена на поселение в Нижнее Поволжье и образовала слободу, которой после строительства и освящения храма «Владимировской иконы Божьей Матери» было присвоено название Владимировка. До сих пор, эта часть Владимировки называют Бакланской.
♦ ДРУГ ДЕДА ЩУКАРЯ. ♦
Был у Деда Щукаря друг, Павел Леонтьевич, но за скверный и склочный характер, а также за писклявый голосок, местные мужики звали его «Мар-Леонтьевна». На это он дико обижался, что-то невнятное истерил своим тонким голоском, при этом грозил маленьким кулачком или своей клюкой.
Был он небольшого росточка, сухонький, с маленькой головой на тонкой шейке, где несуразно выпирал большой кадык. Ходил он и зимой и летом в одном и том же одеянии: старая затёртая фуфайка с чужого плеча, застиранная рубашонка неопределённого цвета, явно не по размерам, на ногах стоптанные солдатские сапоги большого размера, на голове старый овчинный треух давно без завязок. И непременно при нём, всегда висела на плече, присутствовала старая, затёртая почти до дыр, сумка – зимбель.
По разговорам, у него имелся дом, точно не знаю, то ли в Пологом Займище, то ли в Кап Яре, но там он, после смерти жены, практически не жил. Лишь редко посещал своё село для получения небольшой пенсии, которую пропивал в первую же неделю, а потом приезжал во Владимировку и был постоянным посетителем буфета «Поплавок». Здесь же и кормился, чем бог пошлёт, здесь же спал, после стаканчика «Московской», под ближайшим кустом. Подходит такое чудо к выпивающим мужикам и начинает канючить: «Мил человек, угости старика стаканчиком, не дай пропасть душе».
Деда Щукаря он уважал, потому что Константинович никогда не гнал его от себя, у него всегда была копейка на руках и он всегда не только угощал его «на халяву» водкой, но и предлагал закуску, либо сырок, либо бутерброд или просто конфетку. Любят у нас на Руси помогать немощным и убогим. А ещё, самое главное, Дед никогда не подшучивал над Павлом Леонтьевичем, как это делали другие мужики.
Бывало, пригласят «Мар-Леонтьевну» к столу, и пока одни отвлекают его разговорами, другие наливают стакан водки, насыпают туда чайную ложку перца, ложку соли и ложку горчицы, которые всегда стояли на столах.
Размешают всё до однородной жидкости и поднесут старику, тот жадно припадёт к стакану, эффектно держа его в руке, слегка оттопырив мизинчик, глотает эту адскую смесь, только огромный кадык прыгает вверх-вниз на тоненькой шейке. Затем, выпив всё, вздрогнет всем телом, остатки волос встанут дыбом, один глаз сильно зажмурится, а второй – кажется, хочет выскочить из орбиты, громко крякнет и произнесёт: «Эх! Сильна анчутка!».
После этого начинает что-то невнятно бормотать, очевидно, слезливо жалуясь на свою жизнь, а потом мирно засыпает, либо под столом, либо в ближайших кустах. Он не причинял никому никакого зла, поэтому его даже милиция с дружинниками не трогали, так и спал старик мирно до следующего дня.
Так он проводил свою жизнь в тёплое время года, пока рядом работал летний кинотеатр «Мир», кто-нибудь обязательно пожалеет старика, угостит или пирожком, или бутербродом, либо просто сухой воблой. Когда становилось прохладно, и летний кинотеатр переставал работать до следующего лета, а с ним и летний буфет, Павел Леонтьевич просился на постой к какой-нибудь сердобольной старушке в кухню, а с наступлением тёплых дней, опять объявлялся на площади у кинотеатра.
А однажды случилась с Павлом Леонтьевичем настоящая беда. Раньше все котельные в городе и все пекарни работали на мазуте. Это сейчас у «эффективных менеджеров» от ЖКХ валютное сырьё – газ стал дешевле, чем отходы нефтепереработки – мазут. Возле каждой котельной или пекарни всегда имелась яма для хранения топочного мазута, где к концу отопительного сезона всегда оставалось его некоторое количество. А автостанция раньше была на рыночной площади, прямо у стен нынешнего «Спутника». Стоял ряд деревянных остановочных павильонов на разные направления. Возили людей небольшие автобусы на базе автомобилей «ГАЗ-51», народу всегда набивалось много, но водитель всегда мог ограничить количество пассажиров, так как прямо к его месту подходил рычаг, закрывающий единственную пассажирскую дверь. И вот едет водитель дядя Саша мимо пищекомбината и видит такую картину: ползёт из ворот странное существо, ни то огромная муха из чернильницы, ни то человек весь в мазуте, оставляя за собой жирные капли густой жижи. Остановил он автобус, а это существо пытается ещё влезть в салон автобуса, грязное, пьяное, да ещё матерясь на всех на чём свет стоит.
Вышли мужики с шофёром, отвели его на котельную пищекомбината, где под горячей водой отмыли его, там же уложили на куче тряпья спать, развесив его вещи сушиться.
После того, как Дед Щукарь перестал выходить из дома, по причине болезни ног, пропал и бедолага – Павел Леонтьевич, но память о нем осталась.
♦ СТЕПНАЯ ВЕДЬМА ШУЛМА. ♦
Мой дед Андрей Захарович ходил не спеша, на деревянном протезе, который скрипел при ходьбе и гулко стучал по деревянному полу. Прожив тяжёлую жизнь, те не менее, был добрый, никогда в жизни не пил, не ругался матом, когда сильно сердился, мог только сказать: «ёж твою дать!». Это было его самое крутое выражение, которое только могло сорваться с его губ. Он не был набожным, церковь почти не посещал.
Умел он рассказывать сказки, иной раз слушаешь его, слушаешь, и уснул уже, снятся тебе Иван Царевич, несущийся через поля, через леса в Тридевятое царство за молодильными яблоками. А по утрам мы степенно ходили с ним на край Большого Извоза смотреть, как пастух собирает стадо коров и гонит их через брод речки Мурня в займище.
Одну из его сказок, про степную ведьму Шулму, я и хочу вам рассказать сегодня. Это сказание среди местных жителей сохранилось, видимо, ещё с тех времён, когда данную местность населяла татаро-монгольская Орда, две столицы которой Сарай-Бату и Сарай-Берке были раньше выше и ниже по течению реки Волги от нашей местности.
Однако, со временем это сказание слегка видоизменилось под местный колорит, сохранив только внешний облик степной ведьмы. Выглядела, демон Шулма, в виде красивой молодой девушки, только задняя половина тела была телом белой коровы. Длинный белый хвост заканчивался рыжей метёлкой волос, копыта на ногах угольного цвета, волосы на голове как верблюжьи хвосты, такие же рыжие, из волос Шулмы торчали огромные коровьи рога.
Была она когда-то красивой дочерью уважаемого в степи человека, но от избытка возможностей, совершила десять самых грязных и чёрных грехов, после которых человек превращается в злого демона. Самыми чёрными грехами у людей степи считались: кража, ложь, ссора, скверные мысли, зависть, сплетни, обиды – причинённые другому человеку, разврат, неверие и убийство человека. Совершивший всё это, становится вечным рабом Дамба-Дарджжи, который превращает женщин в степную ведьму Шулму, а мужчин в степных чертей Чуткуров, прислуживающих ей.
Увидел, что кружит в степи смерч-суховей, беги от него, это в вихре танца кружит Шулма, а вокруг неё в бешеном круговороте несутся её Чуткуры. Не дай вам Бог, сбившись с пути в бескрайней степи, в ночное время, пойти за блуждающими огнями. Эти огни называются «Тургайские», с помощью которых закружат по степи демон Шулма и Чуткуры (черти) путника, заведут обязательно в гиблое, глухое место, отнимут силу и волю к жизни. Лучше остаться на месте и с восходом солнца отыскать пропавшую в темноте дорогу.
Если выехать из Владимировки в сторону Капустина Яра то, не доезжая Куркина ерика, слева будет малозаметная дорога в сторону реки. Там сейчас расположено небольшое поселение Дмитриевка. Ранее у него был владелец граф, один из фаворитов Екатерины II, по фамилии которого оно называлось Зубовка. Жители поселения были крепостные крестьяне графа Зубова, держал он там свою псарню с породистыми собаками, заставлял молодых кормящих крестьянок поить своим молоком щенков этих собак.
Жил у него в Зубовке, на правах вольного человека, один знахарь по имени Дмитрий. Хоть был он уже стар и с трудом передвигался по земле, но знал как какое животное и чем лечить, помогал и людям справляться с недугом. За это его любили и уважали в поселении. Вставал он ещё до восхода солнца и медленно шёл собирать различные полевые травки, с помощью которых и лечил животных и людей. Пришло его время – отправился он тихо в мир иной. Похоронили его на местном погосте, на краю обрыва, над затоном Куркина ерика.
Показалась на горизонте туча чёрная, гонит её ветер в сторону реки, вот она закрыла собой уже солнце, сверкнула молния, грянул гром, и хлынул проливной дождь. Опять блеснула молния, на смену дождю налетел на Зубовку ураган с вихрем, часть соломенных крыш сорвал с хат, разогнал ребятишек и живность во дворах. Это Шулма со своими прислужниками налетела из степи.
Повадилась она детишек малых воровать у родителей, как увидит в поле молодую женщину с ребёнком, пока мать работает на пашне, ребёнок на меже играется. Налетит Шулма пыльным вихрем, засыплет глаза матери землёй, пока та протрёт глаза, а нет уже малого дитя, хоть кричи, хоть свищи – пропало дитё.
Как не береглись люди, закрывали детей по хатам, так Шулма хаты вихрем валила, хилые оконца выбивала, а утаскивала детей. Что делать сельчанам? И молились они и к ворожеям и старым колдуньям в Верхний Хутор на поклон ходили за советом – ничего не помогало.
Однажды, убитая горем мать, пришла на могилу умершего знахаря Дмитрия. Упала на могильный холм и зарыдала горько, моля у него совета. Незаметно для себя заснула, так как несколько дней и ночей провела в поиске пропавшего ребёнка.
И явился к ней во сне старец Дмитрий, посочувствовал её горю, пожурил, что раньше не пришла, и дал совет. Боится эта степная ведьма только двух вещей: обычной верблюжьей колючки и не переносит духа козла, бежит от него как чёрт от ладана. Посоветовал старец ещё установить в Верхнем Хуторе церковь и освятить её на Покров. Должна она помнить и передать людям, как только крест с этой церкви упадёт и провалится под землю, а могила его рухнет в воды затона Куркина ерика, случится беда – опять вернётся степная ведьма и будет изводить род людской на этой земле.
Очнувшись от тяжёлого сна, молодая женщина побежала в селение, собрала народ, передала совет старца. Побежали женщины искать в степи верблюжью колючку и рассаживать её вокруг посёлка. Мужики поехали на телегах к ближайшим рынкам покупать коз с козлами.
К вечеру всё было готово, посёлок занял круговую оборону. Поздно вечером явилась Шулма за очередной жертвой, кружась в вихре смерча, глянула на посёлок, а вокруг него верблюжья колючка ощетинилась острыми иглами, а у крайней избы блеет козёл с огромными рогами, бьёт копытом и трясёт бородой, издавая вокруг себя омерзительный для неё дух.
Взревела Шулма диким ором, загорелись глаза демона красным пламенем, из ушей чёрный дым повалил, будто степной пожар разгорается. Ударила степная ведьма своими рогами об землю, образовался на том месте овраг, отделивший огромный кусок земли с поселковым кладбищем на нём от материковой степи. Устояла та земля на месте, не рухнули могилы в воды затона Куркина ерика. Погрозила кулаком Шулма побелевшим от страха людям, и унёс её ураган в степь за реку Урал. Больше она никого не беспокоила.
Вздохнули жители посёлка, каждый поблагодарил в душе мудрого старца, в знак благодарности упросили власти переименовать своё поселение из Зубовки в Дмитровку, а так как помещика графа тоже звали Дмитрий Александрович Зубов, получили они на это соизволение от него. Поставили церковь в Верхнем Хуторе, освятили её на Покров, и стало это село именоваться Покровка.
Вот такую мне сказку рассказал мой дедушка. Церкви в селе Покровка уже нет, а кладбище у Дмитровки ещё стоит, зависнув над затоном. Овраг, отрывающий землю с погостом от степи, с каждым годом всё глубже и глубже. Помните об этом, люди!
♦ ЛЕГЕНДА О ПОДЛОСТИ. ♦
Это случилось в шестидесятых годах, теперь уже прошлого века. Один из оперативных работников уголовного розыска – Михаил, своим честным трудом, добился неплохих результатов порученной ему работы. Опираясь на почти круглосуточную работу, иногда в ущерб собственной семье, работу всего коллектива уголовного розыска, осуществлял раскрытие преступлений «по горячим следам», розыск преступивших закон, поиск неоспоримых доказательств совершения преступлений теми или иными лицами.
За достигнутые успехи, Михаил был назначен на освободившуюся должность начальника уголовного розыска. Сравнительно небольшой коллектив УГРО подобрался довольно сплочённый, сплошь фронтовики, не один раз смотревшие в глаза смерти. Если бы ещё не ночные вызовы на службу, живи да радуйся.
Жизнь не стоит на месте, одни начальники и рядовые сотрудники переводятся к новому месту службы, другие уходят на заслуженный отдых, а их места начинают занимать новые, часто случайные, люди. Так в их отделе появился новый сотрудник, для краткости назовём его просто по кличке – Бирюк. Вроде бы и простой парень – красавец с вороными, как смоль кудрями, но что-то в нём настораживало. По прежнему месту работы о нём были совсем не лестные отзывы, хотя он юморил, часто рассказывал анекдоты, но и не прочь был лишнего «залить за воротник». После подпития становился настоящим бирюком – злым, смотрящим на всех исподлобья, огрызающимся.
Всё бы нечего, но на смену прежнему начальнику милиции, ушедшему за заслуженный отдых, пришёл новый назначенец. Ранее он работал в системе Главного Управления Лагерями, а после их расформирования был направлен в распоряжение Областном Управлении МВД, откуда был назначен на освободившуюся должность – начальника районного отдела милиции, о котором идёт речь.
Свою работу назначенный начальник решил начать круто, с разноса личному составу вверенного ему отделения, и работают они медленно, и сроки раскрытия затягивают. Бесконечные совещания и дёргания сотрудников по пустякам совсем «замордовали» и парализовали работу всего личного состава отдела милиции. К концу года практически все его подчинённые имели не по одному взысканию за малейшую провинность, а то и без причины.
Особенно доставалось начальникам подразделений. Каждый день, вместо своей работы они должны были являться на бесконечные совещания и выслушивать в свой адрес необоснованные и не заслуженные оскорбления.
Вот тут-то Бирюк и проявил себя. Стали сотрудники УГРО замечать, что больно часто он стал появляться в районе кабинета начальника милиции. Что-то записывал в свой блокнот и как-то мерзко похихикивал. Все просчёты его сослуживцев моментально становились известны придирчивому начальнику, а за этим следовал вызов к нему в кабинет «на ковёр» и полчаса ора и брызганья слюной.
Периодически он вызывал и Михаила, отвлекая от основной работы, требовал немедленного результата раскрытия преступления. После очередного преступления поучал: «Что мне тебя учить? Взял любого бывшего сидельца и „повесил“ на него нераскрытое преступление! Был бы человек, а статья для него найдётся!» – орал прямо в лицо Михаилу, не слыша его объяснений.
Михаил стойко отказывался от того, чтобы на совершенно невиновного в этом деле человека «вешать» бездоказательно уголовную статью, за это получал очередную порцию оскорблений в свой адрес. «Я столько таких доходяг на Колыму отправил, тебе и не снилось!» – продолжал брызгать слюной начальник, лицо его при этом покрывалось бурыми пятнами.
Нервная обстановка в отделе неизменно сказывалась на работе всех подразделений. Люди старались как можно реже бывать в здании отдела милиции, создавая видимость работы. На вопрос начальников, где тот или иной сотрудник, дежурный по отделу неизменно отвечал: «На выезде!», ему было хуже всех, он уйти из отдела не имел права.
Одним из летних дней начальник милиции вызвал для очередного «разноса» Михаила, который снял китель с удостоверением в кармане и в рубашке направился в кабинет начальника милиции, так как предполагал, что быстро эта экзекуция не закончится. В кабинете, в это время, остался только один Бирюк.
Вернувшегося после «словесного поноса» Михаила ожидал дежурный по райотделу с сообщением об очередном совершении преступления на подведомственной территории. Михаил потребовал немедленно найти необходимых сотрудников и убыл на место совершения преступления, оставив дежурным по отделу Бирюка, так как в оперативной работе тот мало что смыслил.
До поздней ночи он с сотрудниками расследовал преступление, посетил несколько притонов и мест обитания неблагонадёжных элементов, и уже глубокой ночью случайно обнаружил отсутствие своего удостоверения. Холодный пот прошиб его от макушки до самых пяток. Первый вопрос: «Где потерял или мог выронить?», второй вопрос: «Что делать теперь?». Вернувшись в райотдел, Михаил с сотрудниками, обыскали весь кабинет – нет нигде удостоверения.
Трое суток, без сна и отдыха, даже не подумав о еде, Михаил с оперативниками, на грани сердечного приступа, искали пропавшее удостоверение. Хорошо если просто выронил и лежит оно где-то никем не замеченное, а если его нашёл преступник и воспользуется им в своих корыстных целях – это верная тюрьма и несмываемый позор начальнику уголовного розыска.
Все эти чёрные дни Михаил не был в семье, чтобы исключить долгие объяснения, только однажды поздно ночью постучав в окно родного дома, коротко сообщил жене, чтобы она его не искала, скоро он сам придёт домой. Она тут же выскочила из дома к нему, а его уже и след простыл, как не было. Ей стало казаться, а не во сне ли он пришёл к ней? Всё потеряло реальность. Жена и дети тоже не находили себе места все эти дни, воображение рисовало безрадостную картину. Не лаял даже дворовый пёс, а только тихо сидел в своей будке, выходя чтобы попить воды и тихонько скулил.
Хорошо себя чувствовал только Бирюк, он по-прежнему «травил» анекдоты, несмотря на то, что на них никто не реагировал, а все только нервно курили папиросу за папиросой. Под вечер четвёртого дня, после безрезультатных поисков, оперативники в мрачном настроении решили зайти в ближайший павильон, немного заглушить тоску и горе стаканом водки.
Бирюк, чуя возможность бесплатной выпивки, тоже увязался следом, хотя его никто не приглашал и даже не особенно желали его присутствия. Пошёл и пошёл, не гнать же его. Молча встали в тёмном углу павильона за столик с мраморной столешницей, взяли пару бутылок водки и стаканы. О закуске никто даже не помышлял. Каждый оперативник за столиком молча думал о своём и о судьбе отдела, нервно затягиваясь папиросой.
Только Бирюк, в приподнятом настроении, всё время пытался начать разговор, и вот после очередного стакана водки, его понесло. Он стал рассуждать, что когда его назначат начальником уголовного розыска, то он им всем покажет, кто такой Бирюк. Он заставит их уважать его, как уважает его начальник райотдела. Он умеет ответственно относиться к хранению документов, он ценный работник отдела, они ещё все у него кровью умоются и сотрудники и преступники.
Оглядевшись вокруг и обнаружив, что кроме них в павильоне больше нет никого, а буфетчица ушла зачем-то в подсобку, сотрудники УГРО, схватив Бирюка «за грудки» притиснули его к стене павильона и прохрипели: «Говори! Что ты сказал? Это твоих рук дело?». Бирюк моментально протрезвел и, наверное, от избытка чувств у него из штанины потекла струйка жидкости.
Он стал клясться, что пошутил, что это всё водка, а он так не думает и после того как его отпустили, брезгливо отшвырнув от стены, он быстро удалился в сторону райотдела. «Побежал жаловаться», – подумали сослуживцы, но им уже было всё равно, пили молча, жалея своего начальника, который в это время продолжал поиск своего удостоверения.
Вернувшись поздно ночью в пока ещё свой кабинет, Михаил, не включая света сел на один из стульев, его взор случайно упал на какой-то предмет, блеснувший в свете лунной дорожки под его письменным столом. Подошёл, нагнувшись, поднял его и раскрыл – это было его «пропавшее» удостоверение. Усталость четырёх бессонных дней камнем навалилась на него, он молча сел за стол, положил голову себе на руки и будто бы провалился в пустоту, в тяжёлый сон без сновидений.