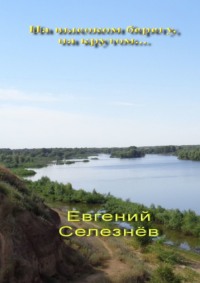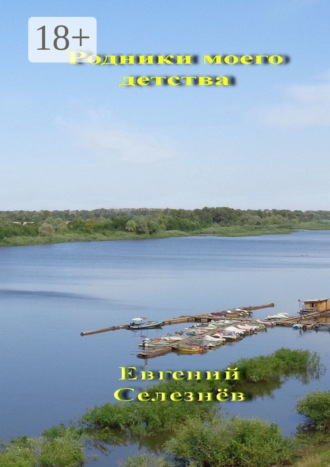
Полная версия
Родники моего детства. Легенды Нижнего Поволжья
До постройки многоквартирных домов, напротив этой череды магазинов, здесь размещалась рыночная площадь, которая отделялась от улицы Волгоградской рядом лабазов и хлебных лавок. В памяти запомнилась одна хлебная лавка, где кроме огромных караваев на деревянных полках, вдоль стен стояли огромные деревянные лари с мукой. В самой лавке стоял густой ароматный дух свежеиспечённого хлеба и ржаной муки.
Магазин «Спутник» уже был построен и сверкал блеском своих огромных витрин. Первый этаж занимали продукты и бакалея, а на втором этаже продавались промтовары и размещался наш любимый отдел игрушек.
Напротив «Спутника» два больших окна книжного магазина «КОГИЗ» – книготорговое объединение государственных издательств, в те времена здесь продавали, довольно интересные книги и не было никакого ажиотажа, как это было позже.
С другой стороны от «Спутника» стоял высокий деревянный шатёр крытого рынка. По определённым дням недели на рыночную площадь съезжались с зимовок, хуторов и ближайших населённых пунктов продавцы для реализации, как домашней продукции, так и живого товара в виде цыплят, кур, уток, индюков, кроликов, овец, поросят и даже коров.
Запомнился случай, когда в выгребную яму у рынка провалился огромный верблюд, переполошивший весь рынок своим рёвом. Ох, не лёгкая это работа, из ямы вытаскивать грязного и плюющегося верблюда. Но толпа мужчин с верёвками и один грузовик «ГАЗ-51», через полчаса, смогли помощь бедному животному не пасть лютой и позорной смертью. Хозяин сразу повёл его на реку мыться, даже телегу с тыквами и арбузами на рынке бросил.
На прилавках крытого рынка продавали малину, вишню, абрикосы, сливы, следом был прилавок с молочными продуктами: молоком, сметаной, творогом, брынзой и маслом. Напротив были прилавки с мясом говядины, свинины, баранины и кроликов, тут же висели и лежали тушки домашней птицы. За спиной продавцов рубщик мяса на огромной дубовой колоде разделывал туши животных топором огромных размеров.
На этой же площади стояли деревянные павильоны остановок на различные направления. Возили тогда людей автобусы на базе автомобиля «ГАЗ-51» с одной пассажирской дверью, которую через систему рычагов отпирал и запирал водитель со своего места, тем самым ограничивая количество пассажиров в салоне.
Центральный парк.
Центром Владимировки, длительное время, да и всего города Ахтубинска, был парк между улицами Чкалова и Пушкина, от улицы Фрунзе до улицы Пролетарской. Он был огорожен деревянным фигурным штакетником, который периодически падал и, в конце концов, был полностью разгорожен.
В парке, с раннего утра и до вечера играло радио. В районе парка было тогда два кинотеатра – зимний «Мир» и летний «Мир». Здание зимнего кинотеатра сохранилось до наших дней, оно стоит у нынешней художественной школы, а амфитеатр летнего кинотеатра окончательно сгорел в семидесятых годах. От него осталась только площадь с бывшим фонтаном, ныне композицией «Бабочка». В здании Воскресной школы ранее размещалась взрослая районная библиотека, а детская библиотека размещалась рядом по улице Пролетарской. На улице Чкалова, рядом с парком, два двухэтажных здания: Районо (ныне художественная школа) и Райкома с Райисполкомом (ранее на этом месте была церковь «Владимировской Божьей Матери», разрушенная после ликвидации банды Орлика). Местность перед этими зданиями называлась «Топталовкой» или Владимировский Арбат. Вдоль неё прогуливались пары перед киносеансами, здесь была установлена «Доска почёта» с фотографиями тружеников села и передовиков производства, а рядом «Комсомольский прожектор», где высмеивали бездельников и пьяниц. Главным украшением парка был памятник труду. Мимо этого памятника я ходил в школу. А памятник был красив, с юмористической историей: местные мужики анекдот про него придумали. Там одна фигура рабочего радовалась и тянула руки к зимнему павильону, где продавали пиво, вторая мужская фигура энергетика радовалась и тянула руки к четвёртому магазину в углу парка, где продавали вино и водку, а женская фигура колхозницы огорчалась и тянула руки к райкому со словами – мужики кончайте пить, райком помоги! Венчала памятник высокая стела серп и молот. Видимо он кому-то мешал, снесли его в начале двухтысячных.
Из питейных заведений, в парке были два павильона: зимний, который работал круглогодично, там стояли столики на высоких железных ножках и летний павильон под негласным названием «Поплавок», так как во время полива парка вода окружала его со всех сторон, а вот столы и скамейки там были деревянные.
Ранее проезжая часть улицы Чкалова была вымощена булыжником, как и Гагарина и Пушкина до самой реки. А пешеходная часть Чкалова от Пролетарской (Столбовой) до Фрунзе, была выложена красным кирпичом на ребро, а впоследствии покрыта асфальтом. Зимой мы запрягали в санки нашу овчарку по кличке Беркут, и он возил нас с братом по этой улице вдоль парка по вечерам. Там было всегда светло от фонарей, так как рядом на месте гостиницы «Ахтубинская» была электростанция, где перед праздниками всегда вывешивали разноцветные гирлянды из лампочек, окрашенных кустарным способом.
В углу парка у двухэтажного дома по Пушкина, была детская площадка, на которой была деревянная горка. Мы с неё катались летом на велосипеде, а замой на санках. Дорожку раскатывали и соревновались, кто проедет дальше. Пить воду бегали на колонку у парка, напротив аптеки. Позже, рядом с большим фонтаном, установили питьевой фонтанчик, маленькая чаша опиралась на чугунную ножку, украшенную картинками подводного мира. Поэтому пить воду из фонтанчика, мы бегали толпой, даже когда и не сильно этого хотели.
Напротив водяной колонки стояло длинное деревянное здание городской аптеки, где продавали не только готовые лекарства, но и изготавливали некоторые из них прямо в этом же здании. Нужно было только немного подождать и по рецепту, получить необходимое лекарство от возникшего недуга.
В парке есть памятник, там похоронены те, кто ценой своей жизни устанавливал Советскую власть в наших краях. Имя моего отца теперь есть на памятнике в парке, прожившего всего 49 лет, сказались старые военные ранения и «собачья» работы по борьбе с бандитизмом после войны, когда пришлось отлавливать по всей стране «птенцов Берии».
А кто помнит, какие деревья в парке были? Помните – вертолётики запускали из семян, или Лох Серебристый называли финики и с нетерпением ждали, когда же они поспеют, чтобы попробовать чуть сладковатую и вяжущую кашицу с маленького плодика. По акациям лазили во время цветения, чтобы пожевать нектар из цветков.
Некоторое время, напротив зимнего кинотеатра «Мир», стоял вагончик пневматического тира. В ожидании очередного сеанса кинофильма мы коротали время, упражняясь в меткости стрельбы по мишеням этого тира.
Как только наступала весна, и появлялись первые просохшие проталины, первым подсыхал асфальт у летнего кинотеатра «Мир». Сюда собиралась вся детвора округи. Девчонки играли в классики, а мальчишки чертили кон и начинали игру в альчики. Было два вида игры: выбивать их из кона залитой свинцом битой-сочкой или играть в «Тоган». Этому предшествовала интересная процедура окраски альчиков. Мама готовила красящий раствор для окраски пасхальных яиц, ну а мы уже были наготове – следом красили альчики в разные цвета. Крашеный альчик стоял две копейки, а простой одну копейку. Почти в каждом дворе держали овец, которых начинали забивать на мясо ещё с осени и к весне запасы альчиков пополнялись. С первыми весенними оттепелями начинались нешуточные бои. Некоторым удавалось выиграть несметную по тем временам сумму в целых пять, а то и десять рублей! Такими были наши развлечения тогда.
Коллективных игр, во времена нашего детства, было много. Мы на улице Ленина у парка играли в лапту, с мячом в «Штандера», братья мои вырезали полешки (бабки) для игры в городки. Возле нашего дома на двух столбах были прибиты обручи от старых бочек – это для игры в баскетбол. Кто мяч упускал с горы в речку, тот должен был его и доставать из воды и не волнует холодная она или тёплая. Чтобы этого не допустить, из числа мелкого зрителя назначали смотрящих. Они весь матч бегали вдоль поля, для них поймать мяч – было делом чести, если кто не упустил его в воду и отбил, то тот ходил потом – выпятив грудь.
Вся управленческая структура города Ахтубинска, в шестидесятые годы, (кроме банка) располагалась рядом с парком, в пределах одного-двух кварталов. Милиция по улице Пролетарской, почта и узел связи по улице Гагарина, народный суд по улице Ленина, прокуратура по улице Фрунзе, даже редакция газеты «Ахтубинская правда» и районная типография размещались по улице Фрунзе в купеческом доме с роскошными подвалами, напротив них архив с таким же каменным подвалом. Стоматологический кабинет располагался в финском домике напротив милиции, а поликлиника в небольшом двухэтажном здании на пересечении улиц Ленина и Гагарина, напротив Нарсуда. Ещё одна сберкасса размещалась в одноэтажном домике на углу улиц Чкалова и Фрунзе, рядом со зданием Райисполкома. Сбербанк размещался по улице Шубина в здании нынешнего краеведческого музея. Позже суд и сбербанк перенесли в новые здания на площади Победы.
Кстати, на здании центральной почты, со стороны улицы Фрунзе, раньше был вмонтирован прямо в кирпичную кладку дореволюционный знак почтовой службы, отлитый из чугуна, к большому сожалению, после очередного ремонта здания он пропал.
Пиво тогда продавали во Владимировке только в «Угловом магазине», теперь там бывшая «Светлана» и в буфете возле бани на площади Победы. После бани мужики шли подстригаться к парикмахеру по прозвищу «Трясун», а следующая дверь была дверь буфета, где продавали пиво с воблой и раками. А в павильонах у кинотеатров «Мир» продавали только водку «Московскую» бескозырку по 2 рубля 87 копеек и разливное вино «Плодово-ягодное», в простонародии «Плодово-выгодное» ценой 98 копеек за один литр. Бутылка водки и сырок на закуску вытягивал ровно на три рубля.
Парикмахер с прозвищем «Трясун» – это была легендарная личность для Владимировки. У него была какая-то болезнь, типа Паркинсона, или побочные последствия алкоголизма, когда сильно трясутся руки, при этом он был отличный мастер. Это надо было наблюдать вживую! Мой старший брат ещё мальчишкой специально ходил смотреть, как Иван Макарыч бреет опасной бритвой клиентов. Он брал трясущейся рукой клиента за голову, густо намазывал щёки и горло взбитой пеной, и когда голова начинала синхронно двигаться с рукой Макарыча, он делал несколько резких движений, повторяю – опасной бритвой, и клиент чисто и без травм выбрит до синевы. Основное место работы у него было в парикмахерской по улице Шубина в большом деревянном доме у, сгоревшей позже, кулинарии, на месте которых теперь мечеть. А в комнатушке у бани он подрабатывал по субботам, чтобы тут же за следующей дверью буфета потратить весь свой заработок без остатка.
В углу парка, на пересечении улицы Чкалова и улицы Фрунзе притаился небольшой магазинчик, я ещё помню, когда он назывался коммерческий с огромными металлическими ставнями на окнах и огромными распашными, коваными дверями и торговали там коммерческим товаром.
Рядом с парком сохранилось двухэтажное кирпичное здание бывшей школы, где мне довелось учиться с первого по третий класс. Её спроектировал и построил, по просьбе местного священника, как церковноприходскую школу инженер путей сообщения со станции Верхний Баскунчак.
Набережная Владимировки.
Вначале пятидесятых годов специально расселили нечётную сторону улицы Набережная, так как река подмывала каждый год берег и грозила обвалом стоящим там домам. Там были разбиты парки, посажены школьниками деревья. Каждый вечер летом, перед началом киносеанса в летнем кинотеатре «Мир», люди парами или целыми группами выходили на крутой берег реки. Вдоль всей горы стояли столбы освещения с фонарями, лавочки. Люди стояли и смотрели, как за остров Петриков садиться солнце, как река несёт свои воды к Каспию и каждый думал о своём. Рядом шелестели листвой, посаженные школьниками серебристые тополя, небо чертили стаи стрижей, живущих тут же в норах обрыва, на проводах качались яркие, как волнистые попугайчики, щурки. Внизу у воды суетились владельцы первых быстроходных «Казанок», привязывая их к мосткам лодочной станции «Волна».
Это только бывший глава города соврал, что в Ахтубинске нет Набережной, теперь нет, так как её «умные» архитекторы застроили, перекрыв подход людям к краю обрыва. За семнадцать лет, пока мы там жили, река Мурня постоянно подмывала берег, и обвалилось метров шесть горы. Столбы освещения по краю, лавочки, всё это ушло вниз, обвалилось. Такой же обвал-оползень ждёт любителей строить хоромы на краю кручи сейчас, там уже грунтовые воды вышли наружу и размывают основание левого берега от Северного городка почти до лодочной станции. Уничтожили парк по Набережной и слева от Большого Извоза, также застроили кирпичными домами, почти до Носова Извоза, совершенно не думая о последствиях. Парк там, ранее огороженный фигурным штакетником, так же разгородили, деревянную беседку сломали. Систему полива деревьев с огромной цистерной, откуда осуществлялся полив этого парка, тоже уничтожили. Деревянные ступени лестницы, позволявшей спускаться с улицы Гагарина к реке, к месту пристани речного трамвайчика, следовавшего по маршруту Владимировка – Чёрный Яр, разобрали вместе с перилами.
В конце шестидесятых годов, толи после строительства нового здания Райкома, толи для озеленения Дома Культуры, тогдашние руководители города решили, в прямом смысле ограбить парк у реки, посаженный и выращенный руками школьников, буквально выдрали с корнями машинами уже большие деревья серебристого тополя, прямо на глазах у этих детей. У этой школы не было спортзала и поэтому в хорошую погоду школьники занимались физкультурой в парке над рекой. Самое обидное, что после этого прилюдного акта вандализма, деревья не прижились на новом месте, так как четырёхметровые деревья с повреждёнными корнями не живут. И больше на этом месте деревья не приживались, хотя их вдоль обрыва школьники сажали каждый год. Видимо сама земля сохранила боль и стон уничтожаемых деревьев.
Недалеко от нас жили соседи, которые, в то время держали домашних гусей. И вот когда их выпускали поплавать, поесть речной травки, закусить мелкой рыбёшкой, эта обязанность была возложена на младшее поколение семьи. В этом не было чего-то особенного, все дети Владимировки занимались домашним трудом и помощью своим родителям, чтобы не прослыть закоренелыми лентяями и «лодырями Царя Небесного», как говорила моя бабушка. Когда гусей провожали к реке дочки соседей, то они аккуратно прутиком направляли их по спуску Большого Извоза до самой воды, но когда их выпускал сын соседей Володя, то он обязательно гнал их на самую вершину кручи, откуда они на крыльях пикировали прями в воду. На наш вопрос, зачем Вовка это делает, он неизменно отвечал, что так он их ставит на крыло.
Во времена моего детства зимы были морозные, многоснежные, иногда буран засыпал снегом заборы нашего двора до самого верха. Потом, в солнечный, морозный денёк так хорошо было кататься с этих заносов на санках или лыжах, катишься с самого верха, с крутыми поворотами, спусками, до самой середины замёрзшей реки. Часто я с братьями, вечером после учёбы или даже позже, ходили на лыжах по заснеженному льду реки до самого Зелёного острова и обратно. Хорошо, воздух свежий, с едва заметным запахом печного дыма, к которому примешивается степной аромат тлеющего кизяка, в полосках света кружатся мелкие иголочки замёрзшей влаги, твоё разгорячённое дыхание подымается вверх в виде небольшого облачка. На реке светло от снега и фонарей по краю кручи и прожекторов лодочной станции, ты идёшь, а вокруг тишина, только во дворах на горе негромко лают собаки, да скрипит снег под полозьями лыж.
Несказанной радостью учеников нашей школы было вечернее объявление местного радио об отмене занятий в школе из-за сильных морозов. На следующий день все школьники высыпали гурьбой на горку, с которой катались весь день, кто на чём, кто на санках или лыжах, кто на взятой у ближайшего магазина картонке, а кто просто на попе, вернее на штанах. Помните, были такие плотные шаровары с начёсом, их заправляли в овчинные валенки и к концу катаний с горки на них примерзали катышки снега, которые обметали у крыльца дома веником.
Площадь Победы.
Была во Владимировке ещё одна площадь у Дома Культуры, возведённого на месте церкви, в бывшей куркульской части слободы. В год тридцатилетия Победы над фашистской Германией, ей было присвоено одноимённое название. На месте нынешнего Вечного Огня была аллея тополей, идущая от площади к Дому Культуры.
Вначале аллеи, с обеих сторон стояли два ларька, аналогичных ларькам у Углового магазина, в одном из которых продавали газированную воду, а в другом мороженое. Посередине аллеи, на небольшом пяточке, стоял памятник Ленину, к которому молодожёны, послу бракосочетания возлагали цветы и фотографировались.
Справа от аллеи стояла карусель с петушком на верху крыши, а прокатиться можно было на парных фигурах лошадей, оленей и верблюдах. Слева от аллеи стояли огромные качели, где была возможность раскачаться в лодочках или сидя или стоя на довольно приличную высоту.
На самой площади местным колхозом «Путь к коммунизму» был установлен памятник владимировцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Интересная судьба этого памятника, он переезжал с места на место по площади минимум три раз, пока не занял нынешнее местоположение. Пару раз местные хулиганы отламывали часть автомата у памятника. Тогда же была посажена аллея из каштанов, к большому сожалению, до настоящего времени сохранилось не более двух-трёх деревьев.
С одной стороны, к площади примыкал двор общеобразовательной школы №2, бывшее здание мужской гимназии, на углу которой было небольшое деревянное здание школьной библиотеки, ныне там здание казначейства. В этой школе я проучился с четвёртого по шестой класс, до переезда школы в новое здание по улице Волгоградской.
С другой стороны, площадь ограничивалась дорогой, за которой, в старом купеческом доме, была городская общественная баня, имевшая на то время два отделения: женское и мужское. Это было место, где жители Владимировки могли отмыть трудовой пот, накопившийся за неделю, особенно в холодное время года. Как я уже написал выше, здесь имелись не только места для мытья и купания, но и небольшая парикмахерская, с бессменным мастером Макарычем, но и пивной буфет, где в конце тяжёлой трудовой недели отдыхали мужики после бани, а некоторые и до.
Ходил тогда, среди местных мужиков, такой анекдот. Помывочных мест в бане было не слишком много и поэтому, особенно по субботам, приходилось довольно долго ожидать своей очереди. Однажды, местный любитель пива, пропустив в очередной раз свою очередь, попросился у ожидавших пропустить его буквально на пару минут в раздевалку, где он переоделся в чисто бельё, намочил голову и полотенце, и поспешил опять в буфет к пенному напитку. Дома супруга, не поверив его утверждениям о совершении акта омовения, провела ревизию вещей, где обнаружила, что мыло и мочалка остались совершенно сухими. После чего, любитель пива, был немедленно выселен из супружеской постели на диванчик в зимней кухне до следующей субботы. Вот такие были суровые времена.
По воспоминаниям моего старшего брата, на аллее от площади до Дома культуры, в середине пятидесятых годов, кроме памятника Ленину, стоял ещё памятник Сталину. И периодически, один из еженедельных посетителей бани, а вернее буфета после бани, приходил на пятачок между этими памятниками, усаживался на парапет клумбы и начинал свою беседу с памятниками словами: «Товарищи дорогие, Вы посмотрите, что делается то….». И начинал свою беседу, или вернее доклад вождям обо всех деяниях местной власти, с которыми он лично полностью или частично не согласен.
По периметру площадь окружали небольшие деревянные дома и магазинчики. На углу улиц Ивана Болотникова и Шубина было небольшое каменное здание местного ЗАГСа, рядом с городской баней. На соседней улице Пролетарской была местная хлебопекарня, где пекли замечательный и очень вкусный хлеб, который совсем не похож на нынешнюю хлебную продукцию.
После многолетнего, со значительными перерывами, строительства нового кинотеатра «Победа» с 1975 году, старый центр стал как-бы исчезать. Исчезла рыночная площадь, уступив своё место многоэтажным домам. Переехала поближе к станции «Владимировка» и автостанция. Закрылся, а потом разделился на маленькие отделы, весь первый этаж бывшего магазина «Светлана».
Переехала в новое здание по улице Волгоградской центральная аптека, из старого, деревянного здания у городского парка, поближе к военному городку. Перевели в новые здания Райком и Райисполком с Райкомом комсомола, в которые после девяносто второго года перебрался, теперь уже городской суд – выселив партработников и районная мэрия – выселив комсомольцев. Сравнительно недавно, в военный городок перебралась и милиция, при этом сменив своё название на полицию. Размещавшийся в старом здании милиции Отдел Вневедомственной охраны перебрался в Северный городок, сменив название на Росгвардию. Так же поступила и государственная автоинспекция, сменив название на ГИБДД. Пропали сберкассы, вместе с нашими советскими вкладами, но появились сплошь Сбербанки, которые год своего образования пишут 1841 в девятнадцатом веке, но делают круглые глаза, когда задаёшь им вопрос о советских вкладах. На месте осталось лишь здание центральной почты и узла связи, но само почтовое отделение, после оптимизации закрыто. Уехал архив, прокуратура и редакция газеты «Ахтубинская правда» со старейшим предприятием – городской типографией. Не стало городской гостиницы «Ахтубинская» с небольшим, но востребованным буфетом. После постройки нового здания школы, закрылась и начальная школа в здании над Большим Извозом, теперь здесь жилой дом. В здании съехавшего городского отдела образования теперь художественная школа имени Котова. Памятник труду в парке, в девяностые годы, был бездумно утрачен. Теперь на его месте осталось только массивное бетонное основание, а уникальная фигурная композиция испарилась в неизвестном направлении, как и бюст Ленина. Летний кинотеатр «Мир» давно сгорел, а зимний закрыт и много лет заброшен.
Почти вся нечётная сторона улицы Набережная бездумно застроена частными домами и отгорожена двухметровыми заборами, так что полюбоваться речными просторами теперь нет возможности. Природа возьмёт своё, после очередного наводнения, обрушит подмытые берега, обновив и очистив ландшафт левого берега, унося вешние воды к седому Каспию.
Всё реже и реже посещаю я старые улочки родной навсегда Владимировки. Всё меньше и меньше остаётся на этих улочках знакомых с детства зданий, всё меньше и меньше встречаю на них с детства знакомые лица, всё дальше и дальше уходит то беззаботное, но такое милое моему сердцу время моего детства и моей юности.
♦ ЛЕГЕНДА О СТАРИННОЙ ИКОНЕ. ♦
Было мне тогда, от силы, лет пять-шесть. Отец мой, в ту пору начальник уголовного розыска, по делам службы был знаком с великим множеством жителей Владимировки, одного из районов молодого города Ахтубинска. В силу сложившихся обстоятельств на службе, уделять время своей семье он мог позволить себе довольно нечасто. И вот в один из своих нечастых выходных дней мой папа решил совместить, как говорится, приятное времяпровождение с полезным: съездить на нашу бахчу, прополоть грядки, проверить, как зреет урожай и после этого тихо посидеть с удочкой на речушке Сухая Ахтубка или на озере, со смешным названием, Черепашка. Мои братья ушли в городской Дом Культуры, где они были заняты в музыкальном спектакле «Теремок». Старший играл медведя, а средний брат был мышкой-норушкой. Мама занималась домашними делами, ну а я был до понедельника совершенно свободен и поэтому увязался с отцом.
На бахчу надо было переправляться на лодке через речку Кирпичную, одну из проток Ахтубы, но местные называли её Мурня, скорее всего от искажённого южно-российского диалекта «мурять», что значит нырять. В районе кирпичного завода раньше стояла деревянная купальня, где мальчишки и девчонки нашего края всё лето проводили каникулы, купаясь и загорая с утра и до вечера.
Перевозом людей на небольшой деревянной лодке с вёслами занимался Дед Щукарь, старичок неопределённого возраста, ну в ту пору для меня мужчина в сорок пять лет казался глубоко пожилым человеком. Спустившись с кручи с отцом к реке, мы увидели, что кроме Деда Щукаря, возле лодки ожидает переправы давний друг моего отца, заслуженный хирург Михаил Иванович. Они часто с моим отцом, по делам службы, выезжали на место происшествия, так как Михаил Иванович был по совместительству ещё и экспертом судебной медицины. Он, оказывается, тоже решил немного проветриться и посидеть с удочкой на берегу тихой речушки. Погрузившись в лодку, мой папа сел на вёсла, Михаил Иванович и я уселись на банках-лавочках напротив, а Дед Щукарь, как главный капитан нашего «корабля», взял в руки весло-румпель и молча направил лодку к противоположному берегу, в зияющий проран между зарослями тальника, время от времени попыхивая папиросой «Север».