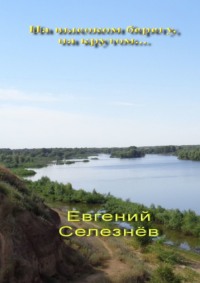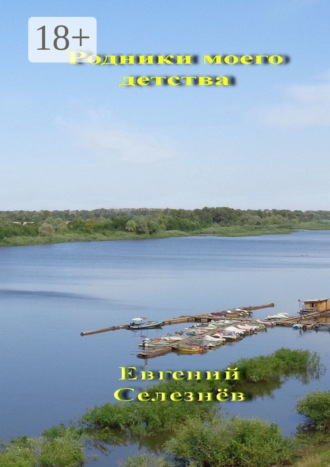
Полная версия
Родники моего детства. Легенды Нижнего Поволжья

Родники моего детства
Легенды Нижнего Поволжья
Евгений Михайлович Селезнёв
© Евгений Михайлович Селезнёв, 2025
ISBN 978-5-0065-5838-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ЕВГЕНИЙ СЕЛЕЗНЁВ
Родился в августе 1960 года в городе Ахтубинске Астраханской области, где проживает в настоящее время.
Образование высшее. Окончил АТИРПиХ и вечерний факультет «Взлёт» МАИ.
Начать писать побудила, случайно попавшая в руки, книга о полигоне «Капустин Яр». В ней обнаружил много ложных сведений о жизни предков, основавших селения и слободы по левому берегу Волги и Ахтубы.
Собирая сведения о жизни и быте своих родов, начиная с первых Ревизских сказок и архивного материала, узнал много интересного не только о жизненном пути предков, но и судьбах земляков. Поэтому решил поделиться этим, в виде небольших рассказов, сказаний и легенд.
Финалист премии «Писатель года» за 2023 год в номинации «Дебют». Включён в сборник финалистов «100 писателей 2023 года». В «140-м Юбилейном Конкурсе МФ ВСМ» занял седьмое место. Финалист (лауреат) Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы» за 2024 год. По итогам национальной литературной премии имени Сергея Есенина «Русь моя», «Писатель года» и «Наследие» за 2024 год стал финалистом.
Номинант литературных конкурсов: «Русь моя 2025 г.», «Георгиевская лента 2023—2025 г.», «Писатель года 2025 г.», «Наследие – 2025 г.».
Редакционной комиссией включён в альманахи «Антология русской позы» за 2024, 2025 годы и «Каталог ММКЯ-2024 г.».
♦ АРОМАТ СТЕПНЫХ ТРАВ. ♦
Долгая дорога по степным просторам, выпавшая на мою долю, в период прохождения воинской службы, часто наводила меня на лирические размышления. Особенно мне нравились поездки в весеннее время, когда природа только просыпается от зимней спячки, когда наступает время цветения степного разнотравья. Очень повезёт вам, если вы попадёте в степь в краткий миг цветения настоящих степных принцесс – тюльпанов.
Жаль, что фото не может передать тот своеобразный аромат степных трав. Запахи молодой полыни переплетаются с тысячами медово-пряных запахов других, на вид невзрачных, но таких духмяных трав и цветов. Ещё солнце не выжгло буйную растительность, ещё не просохли солончаки и лужи, ещё ласковый весенний ветерок не превратился в обжигающий лицо и тело знойный суховей.
Так приятно, сделав незапланированную остановку, выйти из душной кабины автомобиля, заглушив мотор. Густой, тёплый весенний воздух волнами душистого аромата накатывается на тебя, стоящего малой песчинкой посреди этой – поистине бескрайней степи.
Описание степного аромата в тот очень короткий промежуток благоухания весны, заставляет вспомнить тот миг, когда прилетаешь из отпуска и как только выходишь из самолёта на трап, тебя окутывал тот неповторимый аромат степного простора, от которого захватывало дух, и кружилась голова. Когда живёшь здесь постоянно, то вроде бы не чувствуешь так остро эту кратковременную красоту степного края, а возвратившись, понимаешь, что ничего лучше нет этих моментов малой Родины с ароматом горьковатой полыни, терпким маком и сладковатым тюльпанами.
Вспоминаешь первые подснежники на прогретых солнцем проталинах, сладко-терпкий вкус растущей над яром красной и белой тутыни или, как её называют, шелковицы. А также грозные кусты с красно-фиолетовыми цветами и колючими листьями и стеблями расторопши.
А ещё заросли цветущего розовым цветом тамарикса по берегам речушек и рукавов, или отдельно стоящие раскидистые кусты в голубоватом с проседью степном просторе. И когда смотришь на эту небогатую красоту, то кажется, что утренняя зорька растеряла второпях свои сиренево-розовые облачка по нашему краю, да так и оставила их степному прикаспийскому ландшафту вопреки всему: суховеям, зною, а порой и лютой стуже.
Эти степи бескрайние, цветущие до горизонта, такое незабываемое впечатление из детства…
А кто это там, на лысом бугорке стоит столбиком и смотрит на тебя чёрными бусинками глаз? Это суслик оборудовал себе норку, и чуть почуяв опасность от бегущей рядом лисицы или от парящего в небе орла, тут же прячет отощавшее за период зимней спячки тельце в норке у основания бугорка. Но пройдёт совсем немного времени и шкурка его натянется от подкожного жира, залоснится на солнце. Весна период возрождения!
А вон вдали на самой границе горизонта движется кто-то, будто рыжее облако. Это небольшое стадо сайгаков, которые постоянно перемещаются с места на место в поисках свежей травы.
Глядя на эту красоту, начинаешь понимать своих пра-пра-прадедов, пришедших в эти края в 18—19 веке из Битюцкого уезда Воронежской губернии слободы Лосева, вначале в слободу Пестравка, Вольского уезда Самарской губернии, в качестве соляного возчика. Позже, перебравшихся для возки соли в Царицынский округ, основавших слободу Капустянка (впоследствии Капустин Яр), Пологое Займище, слободу Владимировку (впоследствии город Ахтубинск) и ряд других поселений.
На новых поселениях наши предки: пахали землю, выращивали тутового шелкопряда, работали на рыбных промыслах, возили соль с озера Эльтон, а потом с озера Баскунчак на Мамаеву пристань для погрузки её на баржи, которые по рекам Ахтуба и Волга отправляли на ярмарку в Нижний Новгород.
Вот и мы продолжаем жить и трудиться, каждый по своему, на этой, иногда суровой, иногда неприветливой, но такой родной для нас земле. А время течёт, как песок в огромных, бесконечных песочных часах. Одно поколение сменяет другое, и только степь ежегодно умирает и возрождается вновь, пока над ней всходит и заходит наша звезда по имени Солнце.
♦ ЛЕГЕНДА О КАМЕННОЙ БАБЕ. ♦
Купол ночного неба накрывает степь, у полноводной реки Волги, в древности Итиль, будто чашей. По тёмно-синему небосводу рассыпаны миллиарды звёздной пыли. Через небесную сферу прочерчен Млечный путь, или как его называли возчики соли, Чумацкий шлях. Он для них был небесным компасом, в летнюю жару чумаки отсыпались в тени телег, а прохладной ночью волы, отдохнувшие у степных колодцев, лучше тянут тяжёлые возы с солью.
Рядом со степной дорогой, на высоком кургане, обратив свой взор туда, откуда восходит новый день, уже много веков стоит каменное изваяние. Река времени, будто бесконечная кинолента, протекает перед каменным взором каменной бабы. Может ли помнить камень процессы мироздания и происходящих событий вокруг, доподлинно не известно. Река времени бесконечна, как и сама бездна космоса.
Из глубины веков, как отдаёт нагретый солнцем камень тепло, излучают глазницы каменной бабы, мелькавшие перед ней события, происходящие рядом с курганом. Степные орды печенегов, на конях и запряжённых в арбу, недовольно ревущих верблюдах, гонят связанных по рукам пленников. Некоторые из них, от томившей их жажды, падают прямо в дорожную пыль, чтобы никогда уже не подняться.
Пролетают столетия и вот уже печенеги сами бегут от наседавших на них воинов, кочевников с волосами цвета спелой соломы – это половцы. На несколько столетий они стали хозяевами приволжской степи. Это они приняли каменную бабу как своё божество, привезли песчаные глыбы и оградили святилище камнями в виде прямоугольника.
Помнит каменная баба, как вдруг кочующие по приволжской степи половцы стали угонять стада овец и табуны коней по направлению на запад. Останавливаясь на ночлег у подножья кургана, они всегда оставляли жертвенные подношения, подправляли размытые редкими дождями склоны кургана. Проведя поминальный обряд по погибшим соплеменникам, у подножья кургана, половцы растворились в реке времени навсегда.
Холодным осенним утром, у подножья кургана появились всадники на низкорослых лохматых лошадях. Они с интересом смотрели на каменную бабу, не решаясь войти внутрь каменной ограды. Наконец один из них, видимо старший, соскочил со своего коня, резво взбежав на курган, полоснул статую кривой саблей по шее. С тех пор осталась на шее каменной бабы глубокая отметина.
На рассвете вся степь вокруг пришла в движение. Тысячи всадников на лошадях продвигались мимо кургана, за ними ревущие стада верблюдов и овец. Сотни вьючных верблюдов тащили тяжёлую поклажу. Женщины и дети шли, погоняя запряжённых в повозки с огромными колёсами верблюдов. Казалось, эта бесконечная река кочевников не закончится никогда.
Кочевники двигались в сторону ближайшей реки, за ордой оставалась совершенно голая степь. С этого дня мимо кургана то и дело скакали всадники, прогонялись на юг стада коров и овец, понуро шагали пленники обоего пола, сопровождаемые всадниками с копьями. Так продолжалось много лет.
Однажды, к кургану всадники пригнали несколько телег и заставили пленников грузить на них камни с ограды святилища, постоянно подгоняя измождённых людей кожаными хлыстами с грузом на конце. Удар такого хлыста оставлял на спинах пленников кровавый след. Один из кочевников, соскочив с коня, бодро поднялся на курган и попытался плечом завалить каменную бабу, но окрик старшего остановил его. Так строились первые города Золотой Орды в низовьях Волги.
Одним из весенних вечеров, когда тюльпаны окрасили окружающую степь в цвет утренней зари, к кургану прибыла странная повозка, которая представляла собой колесницу запряжённую парой лошадей с установленным над ней широким зонтом. Подъехав к кургану, она остановилась и из неё вышли два странных человека, одетых в свободные пёстрые шёлковые халаты с драконами. Волосы их на головах были стянуты сзади в тугой пучок. На ногах были туфли на толстой кожаной подошве – чжунтайлюй.
Взобравшись на курган странные люди, поклонившись, встали перед каменной бабой на колени, стали что-то бормотать на непонятном языке. После проведённого ритуала, один из путников, снял с себя нефритовый кулон с иероглифом на кожаном шнурке, внимательно осмотревшись, зарыл его у подножья статуи. Поклонившись несколько раз, путники продолжили своё путешествие.
Душным летним вечером к кургану прискакал отряд всадников в кольчугах, совершенно не похожих на воинов ордынцев. Они в конец загнали своих лошадей, видно было, что они уходили от погони. С ними была телега, запряжённая парой лошадей, в телеге под рваной рогожей что-то блестело в лучах заходящего солнца.
Оценив, что лошади дальше не выдержат, всадники спешились и стали держать совет. Оказалось, что бежали они на Дон из второй столицы Золотой Орды города Сарай-Берке на реке Ахтуба. Обманув стражу, похитили одну из надвратных статуй – золотого коня и теперь уходят от погони. Груз оказался слишком тяжёл, несмотря на то, что статуя коня пустотелая, лошади совсем выбились из сил.
Посоветовавшись, решили – золотого коня спрятать, скакать навстречу погоне и принять бой, а там как Бог рассудит. Самое сложное это спрятать в степи статую, чтобы её никто не нашёл до времени. Отсчитав от подошвы кургана сто саженей на восток, в лучах уходящего солнца выкопали яму, куда на глубину сажени опустили золотую статую, засыпали землёй. Сверху, утрамбовав почву, стали укладывать пучки сухой полыни. Проверив направление ветра, развели огромный костёр с таким расчётом, чтобы пламя перекинулось на растущую вокруг полынь и редкие кусты.
Начавшийся степной пожар, пройдя через яму с золотой статуей, полностью уничтожил следы раскопа. Тем временем один из всадников угонял телегу, с загруженным на неё для веса валуном в сторону ближайшей реки для имитации затопления статуи в воде. Остальные всадники решили под покровом ночи напасть на своих преследователей и принять бой. Больше никто из них к кургану не вернулся.
Через несколько лет, мимо кургана, ордынцы Тохтамыша в страхе бежали от войск Темир Аксака – Тамерлана. Преследователи тоже прошли мимо кургана с каменным изваянием, а их предводитель даже задержался здесь на некоторое время. Сам – непобедимый полководец, широко известный как величайший военноначальник и тактик в истории, долго смотрел своим пристальным взглядом в глаза каменной бабы, будто мысленно вёл с ней диалог. Тронувшись в путь, приказал зарыть у подножья статуи три серебряных танги и несколько медных динар. Возможно, после мысленной беседы с каменным изваянием, он принял решение об уходе с земель Руси, не чиня разор.
Год за годом движутся по ночному небосводу созвездия и яркие планеты, непрерывно течёт времени песок в невидимых часах вечности. Рядом с курганом вновь появились уже другие всадники. Совсем недавно в приволжских степях организовали казачьи караулы. Курган с каменной бабой стал конечной точкой маршрута этих караулов. Здесь казаки-станичники зарывали специальные деревянные отметки, так называемые «доездные памяти». Следующий караул должен их поменять на свои отметки, это будет доказательством, что они доехали до конца караульного маршрута.
Высоко в небе летит орёл курганник, над разогретой летним палящим солнцем степью плывёт душное марево. Всё живое старается забраться в редкую для полдня тень. Вдруг, еле слышный крик ребёнка, по иссушенной солнцем степи, к кургану, издалека махая рукой, бежит мальчишка. Следом за ним бежит молодой волчонок. Не добежав совсем немного, он неожиданно останавливается, удивлённо смотрит на каменное изваяние, с его губ срывается только одно слово – «Мама».
Мальчишка взбирается на курган, волчонок нерешительно останавливается у подножья. Прислонившись спиной к статуе, мальчик начинает громко плакать, волчонок подползает к нему и начинает лизать ему, закрывающие лицо руки и выглядывающий между ладонями нос. Волчонок всем своим видом старается успокоить своего друга, он не отходит от него ни на шаг. Мальчик чувствует спиной тепло нагретого солнцем камня и ему кажется, что это тепло тела его, пропавшей много лет назад, матери – по прозвищу Курка.
Всю ночь он с волчонком провёл на кургане, свернувшись калачиком, согревая друг друга от ночной прохлады, мальчик смотрел на звёздное небо, на душе его была благодать. На рассвете мальчишка с волчонком направились в сторону ерика, где уже много дней он обитал в бывшем волчьем логове.
Через много лет он объявится у кургана опять и будет приходить сюда в трудные минуты своей жизни. У подножья кургана будет прятать свою добычу, отобранную у подгулявших на ярмарке купцов и зажиточных крестьян. По слободам и сёлам пройдёт слух, что есть в степи, на развилке дорог курган с каменной бабой. Если прижала крестьянина нужда или беда случилась – достаточно попросить у статуи помощи и найдёшь деньгу или колечко с бусами на кургане. Однако, бойся взять лишнего, вмиг накажет каменная баба, или дом спалит или на домашнюю скотину мор падёт.
Мимо кургана тянут возы с солью равнодушные волы, погонщики идут рядом. Проходя мимо кургана, крестятся и низко кланяются. Ветер клонит кусты седой полыни и метёлки ковыля, будто гонит по степи волны. Каменная баба безмолвно смотрит на поднимающийся из-за горизонта огромный диск солнца. Время продолжает свой бег.
Высоко в весеннем небе поёт свою песню жаворонок. Ему с высоты видно, как к кургану едут на телегах люди, следом за ними движутся, появившиеся здесь недавно, трактора с плугами. Подъехав к кургану, люди стали сооружать из, привезённых с собой от реки, плетней временное жильё. Теперь здесь будет колхозный полевой стан, тут будут жить трактористы, а потом полеводы. Но случившаяся подряд несколько лет засуха надолго отобьёт желание заниматься полевыми работами в этом месте.
Весна сменяет лето, осень вьюжная и многоснежная зима. Через несколько лет опять к кургану едут люди. Но теперь они начинают земляные работы к западу от кургана, ближе к реке. Разровняв участки земли, начинают насыпать вокруг них насыпи. Другая бригада строителей, с помощью экскаватора роет траншеи в виде арыков, по которым вода, подаваемая из реки с помощью насосов, будет доставляться на обустраиваемые полевые чеки.
Строительство чеков, с каждым годом, продвигается всё ближе и ближе к древнему кургану с каменной бабой. На первых поливных чеках уже получили первые хорошие урожаи. В летнюю жару над чеками стоит радуга из миллиардов капель водяной пыли, создаваемой дождевальной установкой. Осенью будет снят рекордный урожай в некогда бесплодной степи.
Настал день, когда техника вплотную подошла к склонам кургана. Экскаватор безжалостно врезается ковшом в пологий склон. Вырванный ком земли пересыпается в бункер скрепера, за ним следующий. Наполнив бункер глиной, экскаваторщик даёт отмашку трактористу, тот направляет трактор со скрепером к сооружаемой дамбе. Следом за ним уже едет трактор с тяжёлыми катками, которые трамбуют и уплотняют слой глины в теле дамбы.
Когда подкоп достиг каменной бабы, она начинает медленно крениться, затем падает навзничь и съезжает прямо к гусеницам экскаватора. Её ковшом аккуратно помещают в кузов подъехавшего самосвала. Каменная глыба будет уложена в основание дамбы для прочности последней, сверху утрамбуют несколько слоёв глины.
Самосвал, подъехав к строящейся дамбе, поднимает кузов, лежащее на боку каменное изваяние съезжает вместе с глиной вниз. Глазницы каменной бабы обращены в бездонную глубину голубого неба. Это последняя картина, которую могло запомнить каменное изваяние, движущийся следом трактор со скрепером, ровным слоем глины засыпает её навсегда. Слой глины сверху каменной глыбы, с каждым разом становится всё толще и толще, всё тише и глуше окружающие звуки. Наконец – тишина.
♦ ВЛАДИМИРОВКА И ВЛАДИМИРОВЦЫ. ♦
Родители мои переехали во Владимировку из Капустина Яра, где многие поколения наших семей обосновались с момента образования слободы. Длительное время снимали жильё, жили с подселением и вот, наконец, отцу на работе, выделили коммунальную квартиру по улице Фрунзе, у районного парка. Квартира, конечно, это громко сказано. Если идти к реке по улице Пушкина, то слева будет двухэтажная школа (ныне жилой дом), а справа над Большим Извозом, на месте пустыря после гигантского пожара в прошлом, построили небольшой деревянный домик. Как мы там помещались семьёй из пяти человек, я до сих пор не представляю.
Водопровода тогда у нас не было, но был вырыт бассейн для хранения воды, при этом моя мама умудрялась выращивать на своём огороде не только необходимые овощи, но и яркие цветы. Ромашки и ноготки, маки и разноцветные майоры, георгины и вьюны, украшали наш двор, несмотря на недостаток воды для полива. Обязанностью моих старших братьев было, натаскать вёдрами достаточно воды для полива огорода и цветника из реки, так как вода из бассейна использовалась только для питья и приготовлении пищи.
Мой отец Михаил Андреевич, был знаком со всеми во Владимировке и не только, так как был фронтовиком, орденоносцем, а по службе пришлось быть вначале участковым в Петропавловке, а потом старшим оперативным работником и до самой пенсии начальником уголовного розыска.
В те времена убийство было довольно редкое явление, особенно в шестидесятые годы, но случались, а вот утоплений, краж было довольно много. И каждый раз приходилось моему отцу, вместе с заслуженным и довольно известным у нас хирургом, по совместительству судмедэкспертом Михаилом Ивановичем, выезжать на происшествия в пойму рек и пользоваться услугами перевозчика.
Перевозил людей на небольшой деревянной лодке на вёслах довольно пожилой мужчина, мы его называли просто Дед-Могиль или Дед-могила. Видимо в отместку за то, что он гонял нас – подростков со своей лодки, когда мы в его отсутствие забирались на неё с удочками для ловли рыбы. Стоимость проезда была копеек десять в оба конца с человека.
Кстати, именно с «лёгкой руки» моего отца, появилось у него другое прозвище – Дед Щукарь. Как-то задержали одного преступника в станице Вёшенской, а он проходил по ряду дел в нашем районе и был объявлен в розыск, вот моему отцу пришлось ехать туда и этапировать его к нам для расследования и суда над ним. В станице Вёшенской отец с коллегами не могли не посетить писателя фронтовика Михаила Шолохова, который подарил ему один экземпляр «Поднятой целины» с дарственной надписью. Долго эта книга была у нас дома и все хотели её почитать, так и «зачитали» – кто-то просто не вернул её назад. В один из дней, после поездки на наши бахчи, когда все мы переплывали на лодке с острова Петрикова (Собачьими буграми его назвали приезжие – организовавшие дачный посёлок там), мой отец и сказал перевозчику: «…Константинович, ну ты прям настоящий Дед Щукарь из «Поднятой целины»…», с тех пор это прозвище «приклеилось» к нему, а он и не обижался на это.
Слобода Владимировка с давних времён как-бы делилась на две части: Бакланскую и Куркули. Сейчас это деление исчезло совсем и лишь единицы помнят, что и где это было. В Бакланской части Владимировки жила в основном беднота, часто питавшаяся одной рыбой, да травой с огорода, а та часть, что у площади Победы называлась Куркули (от южно-русского диалекта куркуль – коршун, человек прижимистый, жадный, скряга и рвач), здесь жили в основном купцы и зажиточные крестьяне, имевшие мельницы, хутора в степи и займище. По богатству жителей были и приходы: сравнительно бедная церковь, стоявшая на месте Райисполкома, ныне Налоговой и пафосная, огромная на месте нынешнего Дома Культуры.
Занимаясь поиском нужных материалов для моих рассказов в архивах, обнаружил интересные сведения проливающие свет на необычное название части слободы – Бакланская. В составе Стародубского полка, решением гетмана, в 1672 году, была образована Бакланская сотня с сотенным центром в городке Баклан, ныне Брянская область Российской Федерации. Просуществовала до 1782 года, решением Екатерины Второй вся Слобожанщина и казачьи звания были упразднены, так как постоянно принимали участие в различных восстаниях (Степана Разина, Емельяна Пугачёва).
Пожелавших продолжить службу «отставников» организовали в регулярные армейские формирования. Не желавших служить в регулярной армии в составе вновь образованных гусарских полков перевели в ряды независимых крестьян – однодворцев, которые обладали некоторыми помещичьими правами и отправили на поселение на Дон, Поволжье и даже на Урал. Селили в новой местности компактно – бывшими сотнями, Бакланская во Владимировке, первая Богучарская сотня, вторая Богучарская сотня, Болсановская сотня в Капустином Яре.
Рыночная площадь.
С ростом числа жителей, границы поселения со временем расширялись, стирая старые и образуя новые. За сорок-пятьдесят лет изменилось многое. Пожалуй, только пожарная часть осталась на своём прежнем месте. Только вместо смотровой площадки на крыше старых гаражей по улице Чкалова, возвели высокую каланчу, с новой смотровой площадкой на самом верху, рядом с новыми гаражами, на пересечении улиц Шубина и Чкалова. Да ещё производственные цеха местного пищекомбината, где до двухтысячных годов делали самые вкусные пряники и печенье, самый вкусный лимонад «Буратино» или «Дюшес» были именно оттуда.
Ранее на месте бывшего магазина «Светлана», нынешнего МФЦ и прочее, размещался целый ряд магазинов от улицы Чкалова к улице Гагарина: первым был магазин «Угловой» с высоким деревянным крыльцом, где продавали продукты, конфеты, сгущёнку, растительное масло и бочковое вино. Помню витрины с конусами сахарных голов, колотый сахар, сахар рафинад и сахар песок. По верху витрин разложены пирамиды шоколада «Алёнка», «Снегурочка», «Белочка» и банок сгущённого молока. За стеклом полукруглой витрины вазы с различными конфетами: «Мишка на Севере», «Мишка косолапый», «Белочка», «Кара-Кум», «Красный мак», но особой популярностью пользовались дешёвые конфетки «Подушечки» с различным наполнением. Протягиваешь продавщице несколько копеек и взамен получаешь небольшой бумажный пакетик с конфетами.
Рядом с «Угловым» стояли два небольших деревянных бело-зелёных ларька «Газ-вода» и «Мороженое». Не помню ничего вкуснее местного мороженого, производившегося совсем рядом на улице Пролетарской, на старом молокозаводе. За десять копеек продавщица накладывала в вафельный стаканчик мороженого вровень с краями, а за пятнадцать мороженое накладывалось с горкой. Стаканчики были очень хрупкие, поэтому многие просили отвешивать порцию мороженого сразу в двойной стаканчик. За ларьками был магазин «Мясо-рыба», но нам он был не интересен, там всё время стояла толпа народа, пайщики кооператива сдавали свою продукцию в виде яиц, масла, и молочных продуктов в обмен на марки в паевую книжку, по которой можно было получить какой-либо дефицит.
Следом стоял магазин «Хозтовары» или как его называли местные «Железоскобяной» там, на полке стояла моя мечта – аккуратный сундучок с миниатюрным инструментом: маленьким молоточком, отвёртками, стамесками, струбцинами и маленькими тисочками. Но он стоял целого состояния – целых двадцать два рубля.
За «Хозтоварами» неинтересные, скучные и плохо пахнущие, магазин «Ткани» и швейная мастерская, пугающая меня треском швейных машин и стоящими в полумраке манекенами. Позже, вплоть до сноса этого ряда магазинов, под строительство многоквартирного дома с магазином «Светлана» на первом этаже, там размещалась сберкасса.