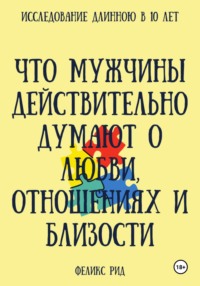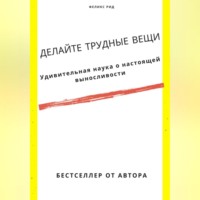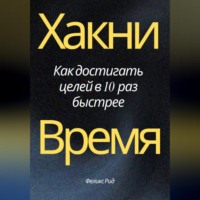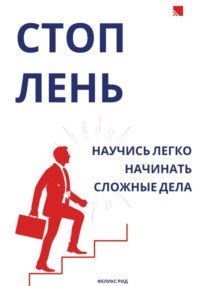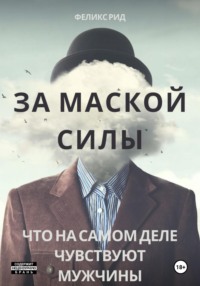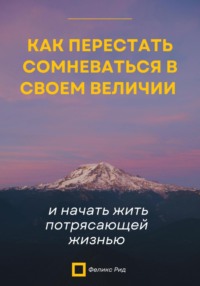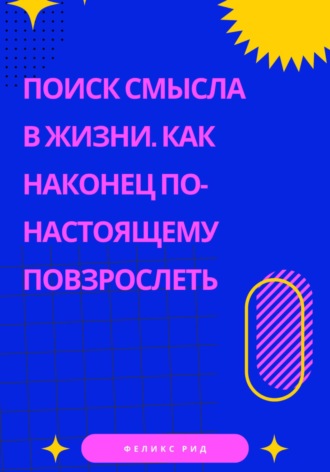
Полная версия
Поиск смысла в жизни. Как наконец по-настоящему повзрослеть
Кроме того, наши предшественники признавали роль индивидуального характера, который неоднократно играл роль в формировании нашего выбора и моделей поведения. То, что они называли hubris, часто переводимое как "гордыня", можно более прагматично определить как нашу склонность к самообману, особенно к заблуждению, что мы владеем всеми фактами, когда принимаем решения. То, что они называли хамартией, иногда переводимой как "трагический недостаток", я бы предпочел назвать "раненым видением", то есть присущей нам предвзятостью при выборе в результате нашей собственной психологической истории.
Наша склонность к неправильному выбору, или непредвиденным последствиям, подпитывается этими двумя обязательствами. Первая – это наше искушение верить в то, во что мы хотим верить, – предположение, что мы знаем о себе и ситуации все, что нам нужно знать, чтобы сделать мудрый выбор. (На самом деле мы редко знаем достаточно, даже чтобы понять, что знаем недостаточно. Любой человек в возрасте сорока или пятидесяти лет, который не ужасается некоторым из своих решений, сделанных в предыдущие десятилетия, либо тупо везунчик, либо находится в бессознательном состоянии.)
Более того, здесь есть и второй элемент, а именно – искажение нашего видения под глубоким влиянием нашей личной и культурной истории. Наш опыт тонко изменяет, даже искажает, линзу, через которую мы видим мир, и выбор, который мы делаем, основан на этом измененном видении. При рождении каждый из нас получает от родной семьи, культуры, Zeitgeist линзу, через которую видит мир. Поскольку это единственная линза, которую мы когда-либо знали, мы будем считать, что видим реальность прямо, даже если она окрашена и искажена. Как мы можем сделать мудрый выбор, если наша информация необъективна и даже неточна? Только исправления со стороны других или исправления со стороны нашей искалеченной психики могут заставить нас задуматься о том, что наш фундаментальный способ видения и понимания вызывает подозрения. Когда я был молод, я фантазировал, что могу узнать все, что нужно знать, чтобы сделать правильный выбор; сегодня я знаю, что никогда не могу знать достаточно, что всегда действуют бессознательные факторы, которые станут очевидны только впоследствии, если вообще станут, и что старые силы, "не заправленная постель памяти", гораздо сильнее, чем я когда-либо им придавал значение. То, что когда-то было уверенностью молодости, хотя часто просто свистело в темноте, теперь я вижу как сочетание высокомерия, хамартии и бессознательности. Из этой встречи с нашими ограничениями рождается мудрость смирения: знать, что мы не знаем даже того, чего не знаем, и что то, чего мы не знаем, часто будет делать выбор за нас.
Классическим прототипом смиренного знания стал Эдип Софокла. Одаренный умом, он, тем не менее, увлекся исполнением мрачных пророчеств, то есть разворачивающихся тенденций истории, которые в критические моменты выбора брали верх над разумом. Насколько отличается полукомический тон недавнего фильма "Пегги Сью вышла замуж", в котором показана зрелая женщина, которая, обладая знаниями более зрелых лет, возвращается к прошлому, выходит замуж за того же придурка, повторяет те же неверные решения, что и в первый раз, и таким образом заново ложится в "не заправленную постель памяти". И все же как схож посыл. (Если бы только мы могли жить в более широких возможностях фильма "День сурка", повторяя один день снова и снова и делая лучший выбор. Однако даже в этом случае возможности неэффективного выбора в любой день кажутся бесконечными, так что мы можем так и не прожить первые двадцать четыре часа).
Такая смиряющая мудрость ощущается как поражение в высокомерии наших предположений, но она также облагораживает и исцеляет, поскольку снова приводит нас в правильные отношения с богами. "Правильные отношения с богами" как психологическая концепция означает, что мы гармонизируем нашу сознательную жизнь с глубочайшими силами, управляющими космосом и проходящими через нашу собственную душу. Такие моменты конгруэнтности будут ощущаться как чувство благополучия, обновленное отношение к себе и миру и ощущение "дома" посреди путешествия. (Не является ли это углубленное путешествие души, по сути, нашим "домом"?) Трагический смысл жизни, таким образом, не болезненный, а скорее героический, поскольку это призыв к осознанию, изменению и смирению перед потрясающими силами природы и нашей собственной разделенной психикой. Кто игнорирует этот призыв, того постигнет гнев богов, расщепление души, которое мы называем неврозом. Трагический смысл жизни – это постоянное приглашение к осознанию, которое, будучи принятым, парадоксальным образом расширяется благодаря смиренному восстановлению нашего места в общей схеме вещей. Традиционное наставление ходить смиренно и в страхе перед богами имеет непреходящее значение для всех нас.
Экзистенциальное ранение и программирование нашего чувства собственного достоинства
Вспомните, что наш жизненный путь начинается с травматичного расставания, шока, от которого мы никогда полностью не оправимся. Основное послание, которое мы извлекаем из этого события, называемого нашим рождением, заключается в том, что мы изгнаны из дома и отправлены в неизвестный мир с множеством пугающих сил. Все мы получили одно и то же послание: мир большой, а вы нет; мир могущественный, а вы нет; мир непостижим, но вы должны разобраться в его путях, чтобы выжить. Присутствие любящих родителей и постоянное заверение в жизни ребенка в значительной степени сглаживает остроту этого послания и активизирует природные ресурсы силы, которые скрыты в каждом из нас. Другие дети, которым повезло меньше, получают послания, лишающие их сил, и чувствуют себя еще более подавленными миром. И все мы, в той или иной степени, переживаем две категории экзистенциальных ран, которые влияют на всю нашу дальнейшую жизнь.
Силу этих первичных, формирующих переживаний в программировании нашего самоощущения, нашего восприятия мира "снаружи" и того, как мы должны к нему относиться, трудно переоценить. В первые годы жизни – без поддержки развития эго, которое исследует мир и его альтернативы, изучает параллельные возможности, учится лучше различать причину и следствие – мы все ограничены модальностью переживания, которую антропологи и архетипические психологи называют "магическим мышлением". Магическое мышление возникает из-за недостаточной способности различать себя и мир. Ребенок приходит к выводу, что "мир – это закодированное сообщение для меня, утверждение обо мне, о том, как меня ценят и как я должен себя вести". По-другому это можно сформулировать следующим образом: "Я – это то, что происходит или происходило со мной". Спустя десятилетия мы можем начать лучше различать. Мы узнаем, что гнев матери, или отчужденность отца, или обедненность воображения, преследовавшая наше племя, были ограничением другого, а вовсе не нас самих. Но это осознание приходит поздно, если вообще приходит, и после многих болезненных поворотов и возвращений. Задолго до этого первобытная интернализация зашифрованных посланий жизни, отождествление себя с условным и требовательным миром стали парадигмой нашего основного самоощущения.
Не имея других "прочтений" мира, ребенок вполне естественно приходит к выводу: "Я такой, каким меня считают". Как сказала мне одна женщина, рожденная от глубоко ограниченных родителей, которые были равнодушны к ее потребностям: "Меня никогда не любили. Я всегда считала, что это потому, что я не стою того, чтобы меня любили". Она интернализировала то, как ее держали, как к ней относились, как обращались с ней, как фактическое утверждение о себе, как это делают все дети. Дети интернализируют психологическую атмосферу родителей, а также внешние условия окружающей среды. Общая динамика семьи, социально-экономические ресурсы и другие культурные условия усиливают первичные послания о себе и мире. Лишь спустя десятилетия, а то и раньше, мы способны отличить этого могущественного "другого" от самих себя.
Кроме того, ребенок наблюдает за поведением больших людей, когда они борются за адаптацию, за выживание, за высказываниями о мире. Является ли мой мир безопасным, заботливым, надежным или отсутствует, враждебен, проблематичен? (Будучи ребенком во время Второй мировой войны, хотя лично я был в безопасности, я обоснованно заключил, что мир – это тревожное, опасное место, поскольку чувствовал вокруг себя эту тревожную атмосферу). Фундаментальные ценности формируются таким примитивным образом и усваиваются десятилетия спустя в совершенно других условиях: доверие/недоверие, приближение/отвращение, близость/дистанция, жизнеспособность/депрессия и так далее.
Отрезвляет мысль о том, насколько случайными являются эти причинные события. Вырываясь наружу из вращающихся циклов судьбы, они не имеют ничего общего с сущностью ребенка, и все же они так часто интернализируются как набор утверждений о себе и других, что доминируют в отношениях взрослого с миром. Да, Самость активна, выражая симптоматический протест против своей покорности такой судьбе, но силе наших ранних посланий необычайно трудно противостоять, особенно когда она действует бессознательно. То, чего мы не знаем, действительно причиняет боль нам и другим и способно направить наш выбор в совершенно ином направлении, чем того желает душа.
Давайте рассмотрим общие категории экзистенциальных травм и посмотрим, как психика реагирует на них. Каждый из нас в какой-то момент своей жизни применял каждую из этих бессознательных стратегий, хотя одна или две могут оказаться более знакомыми, чем другие. Если мы не замечаем их применения в своей жизни, возможно, мы еще не осознаем, как многообразно они сплели и продолжают сплетать нашу историю. По-настоящему отрезвляет размышление о том, что в основе столь многих наших жизненных решений и их последствий может лежать нечто столь изначальное, оказывающее столь длительное влияние на исход всех наших поступков.
Рана переполнения
Первую категорию неизбежных экзистенциальных, детских ран мы можем назвать подавленностью, а именно, переживанием нашего сущностного бессилия перед лицом окружающей среды. Это подавляющее окружение может состоять из инвазивного родительского присутствия, социально-экономического давления, биологических нарушений, мировых событий и так далее. Перед лицом этого подавляющего окружения центральное послание заключается опять же в том, что человек бессилен изменить ход событий во внешнем мире. Каким образом это послание интериоризируется и воплощается в наших стратегиях совладания с ситуацией – вопрос почти бесконечного разнообразия. Однако можно выделить три основные категории рефлексивных реакций.
Важно помнить, что все, что мы делаем во взрослом возрасте, "логично", если мы понимаем бессознательную психологическую предпосылку, из которой оно исходит. Рефлекторное поведение или отношение – это выражение состояния, которое является досознательным, производным и причиной наших реакций. Таким образом, мы никогда не ведем себя как "сумасшедшие"; мы скрытно выражаем логику нашего внутреннего опыта, даже если эта предпосылка глубоко ошибочна, неверна, взята из другого времени и места и полностью игнорирует то, что взрослый человек считает истиной.
Что представляют собой эти три категории рефлексивного ответа на экзистенциальную рану переполненности? Посмотрите, что кажется знакомым, ведь все мы в своей жизни использовали эти логические стратегии и, возможно, используем их и сегодня.
Во-первых, учитывая, что мир больше и могущественнее, мы можем логично попытаться избежать его потенциального карающего воздействия на нас, отступая, избегая, откладывая, прячась, отрицая, диссоциируя. Кто не избегал того, что казалось болезненным или непреодолимым? Кто не забывал, не откладывал, не диссоциировал, не подавлял или просто не бежал? Мы все так делали. И для некоторых эта примитивная защита становится глубоко запрограммированной моделью неприятия больших жизненных требований. Для ребенка, который глубоко пережил переполнение мира, испытал опустошение от психического вторжения, мотив избегания может стать доминирующим в жизни в так называемом расстройстве личности под названием "избегающая личность". Избегание, диссоциация, подавление становятся первой линией обороны для тех, кому не хватает ресурсов, чтобы иначе защитить хрупкость своего состояния. Однако проблема возникает у всех нас, когда такие рефлекторные реакции принимают решение за нас и оттесняют сознание с его широким спектром альтернатив. Я видел, как люди выходили замуж за нелюбимого человека, потому что чувствовали себя неспособными подойти к тому, кого любили, потому что рефлекторно наделяли этого другого такой передаваемой силой, что боялись подойти к нему. Другие избегали поступления в колледж, или стремились к более сложной карьере, или рисковали своим талантом перед лицом мира, который, по их мнению, был слишком силен, чтобы противостоять ему.
Вторая логическая реакция на подавляющее воздействие проявляется в наших частых попытках взять ситуацию под контроль. В самой примитивной форме ребенок, подвергшийся жестокому обращению, может превратиться в социопатическую личность, служащую основной идее, которую он или она усвоили: "Мир причиняет боль и вторгается в него. Ты должен причинить ему боль или вторгнуться в него первым, или же вместо этого ты должен причинить боль и вторгнуться в него". Большинство из нас научились другим, менее экстремальным, механизмам преодоления. Мы можем стремиться к образованию как к средству понимания, потому что понимать – значит контролировать… возможно. Например, некоторые эксперты утверждают, что страх смерти и умирания сильнее у медицинских работников, чем у обычных людей. Если это так, то можно утверждать, что врачи, которые выходят на арену угрозы, предпринимают "героические меры" и воспринимают смерть как врага, а не как естественный процесс, могут иллюстрировать рефлексивный ответ на экзистенциальный посыл переполненности.
Во всяком случае, все мы с большим или меньшим успехом пытались контролировать окружающую среду, чтобы она не контролировала нас. Многие стремятся к открытой власти в жизни – от мелких диктаторов до неуверенных, издевающихся супругов. Их настойчивое стремление к власти – показатель их внутреннего бессилия. Как мало они понимают, что их поведение – это постоянное признание того, чего они боятся. Один из моих пациентов решил стать полицейским, потому что пистолет и значок давали ему власть, которой ему не хватало в детстве перед лицом сексуально жестокой матери. В своих серийных браках он был хулиганом, подвергая своих супругов словесному и физическому насилию. Другие, отказавшись от идеи получить власть открыто, прибегают к тому, что мы обычно называем
"Пассивное/агрессивное" поведение. Такой человек вроде бы сотрудничает, даже проявляет доброжелательность, но тайно саботирует, опаздывает, вставляет леденящее душу критическое замечание, не доводит дело до конца и тем самым обретает власть за счет кажущейся беспомощности. В рассказе Сомерсета Моэма "Луиза" показана женщина, которая выдает себя за инвалида, чтобы контролировать других. Каждый раз, когда они ведут себя независимо, у нее случается сердечный приступ, и она дергает их за цепи. Хрупкая душа, она проходит через двух мужей, которые предшествуют ее смерти, и, наконец, после долгого молчаливого согласия дочери, которая решает выйти замуж и переехать, Луиза оставляет за собой последнее слово, умирая по-настоящему. Мы можем только представить, как в жизни ее дочери будет продолжать психологически доминировать этот пассивно-агрессивный, контролирующий призрак. Такое логическое контролирующее поведение, основанное на ранних и слишком обобщенных выводах, может не только доминировать в нашей жизни, но и причинять боль окружающим.
В-третьих, в связи с тем, что власть над миром нам непомерно внушена, существует еще одна категория логических ответов, несомненно, самая распространенная: "Дайте им то, что они хотят!" Начиная с мамы и папы, большинство детей учатся получать любовь, предоставляя другим то, что от них требуют, ожидают или просто подразумевают. Приспособление – это выученная реакция, иногда даже необходимая для выживания цивилизации. Но когда повторяющееся приспособление берет верх над желаниями нашей внутренней жизни, становится нарушением целостности личности, результаты оказываются уродливыми Заметьте, что существует так много вежливых слов, которые мы выучили, чтобы приспособить наше приспособление. Мы говорим, что кто-то "милый", "приятный", "любезный", "обходительный", а чаще всего – "приятный". Когда эти ярлыки многократно применяются к чьему-то поведению, последствия для его внутренней жизни могут быть на самом деле уродливыми. Мы приучены быть милыми, но если мы постоянно, рефлекторно становимся милыми, мы не только потеряли целостность из-за рефлекторных реакций, но и утратили власть над собственной жизнью. (На самом деле ставки еще выше, поскольку исследования тоталитарных систем или любого общества с сильным коллективным давлением показывают, что благодаря запугиванию большинство, если не все, граждан становятся "милыми", то есть послушными, покладистыми и в конечном итоге соучастниками зла).
В последние годы эта адаптивная реакция стала настолько распространенной, что получила собственное патологизирующее название – "созависимость". Недавно Американская психиатрическая ассоциация, которая пишет книгу о психологических расстройствах и их диагностике, всерьез задумалась о включении созависимости в число диагностических категорий. В итоге ее не включили, по крайней мере пока, потому что это адаптивное поведение оказалось бы настолько распространенным, что страховые компании завалили бы его исками, и потому что сама его обыденность делает его подозрительным в качестве психического расстройства. Созависимость может быть или не быть психиатрической категорией, но она определенно является отчуждением от нашей души.
Созависимость основана на рефлексивном принятии человеком своего бессилия и запредельной власти другого. Всякий раз, когда на наши глаза падает бессильная линза истории, настоящая реальность подменяется динамикой прошлого, и человек снова остается пленником судьбы. Научиться находить свою собственную правду, придерживаться ее и договариваться с другими кажется достаточно простым делом на бумаге. На практике это означает ловить рефлексивные действия в момент их совершения, испытывать тревогу, вызванную более осознанным честным поведением, и терпеть нападки тревожного "чувства вины" впоследствии. (Это чувство вины не является подлинным; оно представляет собой форму тревоги, вызванной ожидаемой негативной реакцией другого человека. Такие реакции для ребенка были чрезвычайно мучительными, и они по-прежнему изнуряют его во взрослой жизни. Один человек, когда автоответчики только появились в широкой продаже, обнаружил, что может просто не отвечать на телефонные звонки в течение двадцати четырех часов – достаточно долго, чтобы старая, уступчивая модель успокоилась и он смог более серьезно решить, что ему делать). Стать сознательным в разгар такого психического рефлекса – задача не из легких, и поэтому старая модель бессилия с гораздо большей вероятностью укрепится еще раз. С годами мы склонны верить, что старая, привычная система – это то, кто мы есть на самом деле, и, по большому счету, эта система, так часто представляемая миру, становится тем, как нас воспринимают другие. Быть милым, однако, перестало быть милым.
Рана недостаточности
Рана недостаточности говорит нам о том, что мы не можем рассчитывать на то, что мир удовлетворит наши потребности. Возможно, кто-то из родителей постоянно оказывался не рядом с нами, увязнув в трудностях своих отношений, депрессии, отвлечениях, зависимостях или давлении реального мира. Даже недостатки вне родительского влияния, такие как бедность, способствуют возникновению чувства нехватки. В худшем случае мы имеем опыт буквальной брошенности. Дети, брошенные в реальности, обычно страдают от так называемой "анаклитической депрессии", которая может проявляться в виде физиологических, эмоциональных, психических и психологических проблем, включая уязвимость к оппортунистическим заболеваниям и, как правило, гораздо более раннюю смерть. Парадигма "неуспеха" основана на том, что ресурсы, которые генетически заложены в нас при рождении, требуют положительного зеркального подкрепления для развития. То, что не получает питания, будет голодать. Ребенок, испытывающий отсутствие, фактическое или психологическое, будет извращаться в неудовлетворенном желании быть накормленным, утешенным и вовлеченным другим, либо выключится и умрет. И даже те из нас, у кого была хоть капля воспитания, кто из нас не чувствовал себя, говоря словами старого духовника, "как дитя без матери"?
И снова из этого подсознательного опыта к каждому из нас приходит ранящее и предвзятое послание, и мы вырабатываем как минимум три основные категории реакции, чтобы защитить свою хрупкую психику.
Первая категория реакции на недостаточность заботы проистекает из магического мышления ребенка ("Я такой, каким меня считают"). Для некоторых отсутствие поддерживающего другого интернализируется как "меня не встречают на полпути, потому что я не стою того, чтобы меня встречали". Такой человек склонен прятаться от жизни, уменьшать личные возможности, избегать риска и даже делать выбор в пользу самосаботажа. Человек воспринимает меньшие возможности как подтверждение своей очевидной ценности. Человек выбирает безопасный вариант, будь то работа или отношения, а не тот, который бросает вызов и открывает новые возможности. Под влиянием этой внутренней программы человек постоянно делает выбор в пользу самосаботажа, каждый раз полагая, что он пришел извне и является лишь еще одним подтверждением заниженной самооценки.
Такие саморазрушительные повторения – пример тревожной мысли Юнга о том, что то, что отрицается внутри, кажется, приходит к нам из нашей внешней судьбы. Мы можем продолжать проклинать судьбу и не понимать, что после детства мы сами делаем выбор, служа старой программе. Один пациент, Грегори, выросший в условиях крайней бедности и значительного пренебрежения, постоянно подрывал свои дары. Когда он потерял большую часть своих сбережений в результате неоднократных неразумных инвестиций, его реакция была такой: "Это были всего лишь деньги, и у меня их никогда не будет. Это я знаю". Его суженный, но тщательно подобранный круг друзей подтверждал его самооценку, даже когда его жизненный выбор удерживал его в рамках старого, привычного умаления. В детстве он неизбежно читал ограниченные утверждения о своей семье и ее бедных социальных условиях и отождествлял себя с ними. Когда-то недостатки были навеяны ему безразличной судьбой, но его последующий взрослый выбор неуловимо укреплял его умаление как устойчивое состояние бытия, действительно "историю" его жизни. Еще более зловещий пример этого феномена можно найти там, где человек подвергся обличению фанатизма. Либо человек наполняется ненавистью к другим и стремлением к самокомпенсации, либо он отождествляет себя с приниженным и живет в ненависти к себе и самосаботаже. Печальный каталог травм, причиненных тем, кто страдает от дискриминации, включает в себя не только изначальную обиду, но и частое, бессознательное сговорчивость с этим дефицитным определением себя. И снова бессознательное уравнение: "Я такой, каким меня считают другие".
Совсем недавно я получил от одного из пациентов следующий сон. Несколько десятилетий назад Гарольд вырос в крайней физической и эмоциональной нищете в Арканзасе. Подростком он выбрался из запустения, поступив на службу в торговый флот. Во время многочисленных кругосветных плаваний он получил образование. В конце концов он сошел с корабля в Хьюстоне, открыл собственное дело и обрел некоторый материальный достаток. Невероятно, но позже он зарегистрировался в аспирантуре Гарварда, был принят и закончил программу, хотя никогда не учился в колледже. И все же, несмотря на все свои достижения, его по-прежнему преследовало чувство дефицита:
Я нахожусь в Гарвардском клубе на обеде. Странно, но все не могут наесться, потому что их галстуки завязаны странным узлом. Мне удается дотронуться до узла, и он развязывается, и теперь все могут есть. Я понимаю, что клуб находится на полпути в гору. Я взбираюсь на оставшуюся часть горы, переваливаю через вершину. Затем радостными прыжками бегу вниз по другой стороне и оказываюсь у подножия. Вижу крестьянина с телегой, а телега пуста.
Во сне Гарвардский клуб олицетворяет его чувство лишенности и пожизненную потребность "приехать". Он находится в клубе, как, собственно, и в жизни, но не может насытиться, пока не развяжет какой-то узел. Однако психика готова к освобождению от этой сковывающей истории. Он обладает способностью развязать узел, понимая при этом, что уже давно поднимается на эту гору. Психика подсказывает ему, что он преодолел этот горб, и тогда он может без усилий спуститься по склону. Его ассоциация с крестьянином связана с его собственным аграрным происхождением, но теперь без "багажа" в телеге. Всю свою жизнь Гарольд отождествлял себя с дефицитом и лишениями и либо поддавался им, либо был поглощен необходимостью компенсировать их за счет приобретений. В семидесятилетнем возрасте, научившись ценить свое зачастую болезненное путешествие, которое привело его во множество интересных портов, и научившись ценить себя как путешественника, совершившего это путешествие, он преодолел горб истории. Тогда он впервые смог оценить свое происхождение без этого багажа. Опять же, кому такое может присниться в сознании? И все же что-то в нас мечтает и приглашает к осознанности, к риску воплощения большего чувства собственного достоинства.