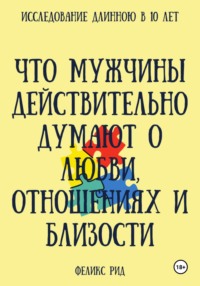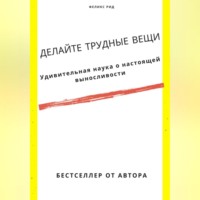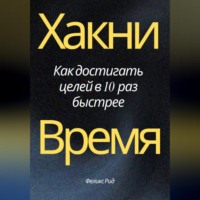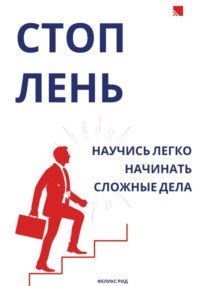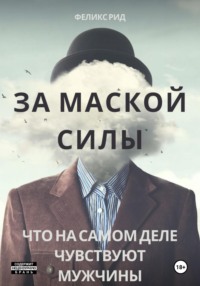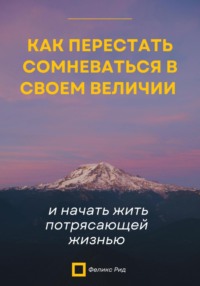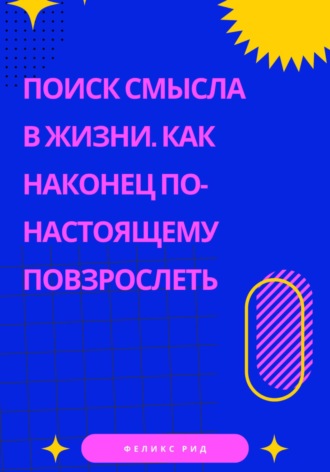
Полная версия
Поиск смысла в жизни. Как наконец по-настоящему повзрослеть
Таким образом, независимо от их возраста, я видел, что клиент за клиентом проходил через некий переход, к которому их сознательная жизнь была не готова, в результате чего они были растеряны, разочарованы, дезориентированы. Такие существенные переходы наблюдались повсеместно. Традиционные культуры разработали общинные ритуалы, чтобы поддержать человека, проходящего через такие периоды, и предоставили яркий набор мифологических образов, которые переносили потерю старого в более широкую, трансцендентную сферу смысла. В нашу эпоху, однако, такая поддержка, такие обряды перехода, как правило, отсутствуют или ослаблены, и эти периоды оставляют человека дрейфующим, дезориентированным, одиноким. Эти мультикультурные обряды перехода всегда опирались на трансцендентные образы и священную историю племени; таким образом, человеку говорили: "Мы делаем это, или понимаем это, или практикуем это, как впервые смоделировали и предписали наши боги и наши предки, и наше сегодняшнее повторение отражает и оживляет их значимые парадигмы для нас". Сравните это историческое ощущение большого смысла наших естественных смертей и возрождений с тем, как сегодня, когда структура личности человека распадается, его могут стыдить, высмеивать или жалеть, а друзья и коллеги почти всегда отдаляются от него. Для таких изолированных людей единственным поддерживающим сообществом может стать компания психотерапевта.
Самой общей характеристикой такого перехода, несмотря на то, что каждый из нас воплощает разные истории, является разрушение "ложного Я" – ценностей и стратегий, которые мы выработали в результате усвоения динамики и посланий нашей семьи и нашей культуры. Каждого человека приглашают к новой идентичности, новым ценностям, новому отношению к себе и миру, которые часто резко контрастируют с жизнью, прожитой до этого призыва. В отсутствие племени еженедельный ритуал анализа становится для некоторых поддерживающим обрядом перехода. Хотя этот переход от прежней жизни и принятых ценностей может оказаться пугающим и дезориентирующим, он ошеломляет и в конечном итоге преображает, когда обнаруживается, что нечто большее желает появиться. На этом этапе путешествия человек приглашается ощутить более глубокий смысл своих страданий и узнать, что нечто, превосходящее прежний образ жизни, всегда приходит, когда у него хватает смелости продолжить путешествие по темному лесу.
В такие моменты я не могу не думать о Джулии. Она провела всю свою жизнь, на шаг опережая ярость и депрессию, служа другим. Она чувствовала, что ее никогда не любили саму по себе, начиная с неполноценных родителей, нарциссического мужа и заканчивая нуждающимися детьми. Работа со своими снами, которую она начала делать из любопытства по рекомендации своего терапевта, привела ее к неизбежной встрече с огромным внутренним миром. Ее сны говорили о ее истории, ежедневных дилеммах и непрожитой жизни. Из этого непрекращающегося диалога она ощутила любовь, наконец-то из какого-то источника внутри нее, который заботился о ней, любил ее без всяких условий так, как она никогда не испытывала. Естественно, потребовалось время, чтобы старое эго, движимое страданиями от необходимости служить другим, чтобы чувствовать себя ценным, отпустило старую программу. Если Джулия на самом деле была любима, из какого-то глубокого места, не зависящего от эго, то ее прежнее чувство собственного достоинства и эксплуатация других, которую оно предполагало, тоже должны были уйти. Эта переориентация личности заняла время, потребовала проб и ошибок, но привела к тому, что Джулия стала жить более полной жизнью, в которой ее собственные потребности стали цениться так же, как и потребности других. Мы не можем недооценивать, что даже перемены к лучшему – это прорыв, смерть старого понимания и его постепенная замена чем-то большим.
Некоторые из нас, по понятным причинам, не хотят слышать даже эту весть о надежде и личностном росте. Мы хотим, чтобы наш старый мир, наши прежние представления и уловки были восстановлены как можно скорее. Мы отчаянно хотим услышать: "Да, ваш брак можно восстановить в первозданном виде; да, ваша депрессия может быть волшебным образом устранена без понимания причин ее возникновения; да, ваши старые ценности и предпочтения все еще работают". Это понятное стремление к тому, что называется "регрессивным восстановлением личности", лишь прикрывает растущую внутри трещину, и мы отправляемся на поиски другого паллиативного лечения или другого, менее требовательного взгляда на наши трудности. Вполне естественно цепляться за известный мир и бояться неизвестного. Мы все так делаем – даже когда щель между ложным "я" и естественным "я" становится все больше и больше, а старые установки все более и более неэффективны. Большинство из нас живут, заглядывая в свое будущее, делая выбор в каждый новый момент на основе данных и планов старого, а потом удивляются, почему в нашей жизни появляются повторяющиеся шаблоны. Лучше всего нашу дилемму описал в XIX веке датский теолог Сёрен Кьеркегор, отметив в своем дневнике парадокс: жизнь нужно вспоминать задом наперед, а проживать вперед. Не является ли самообманом продолжать делать одно и то же, но ожидать других результатов?
Для тех, кто готов встать в жар этого трансформационного огня, вторая половина жизни дает шанс вернуть себя. Они все еще могут с нежностью смотреть на старый мир, но они рискуют вступить в более широкий мир, более сложный, менее безопасный, более трудный, тот, который уже неудержимо рвется к ним.
Парадоксально, но этот призыв требует, чтобы мы начали относиться к себе серьезнее, чем когда-либо прежде, но совсем по-другому, чем раньше. Такой самоанализ невозможен без, например, большей честности, чем та, на которую мы были способны. В большинстве случаев мы приходим к этому моменту жизни, имея заниженное мнение о себе. Как однажды с юмором сказал Юнг, мы все ходим в слишком маленьких для нас ботинках. Живя в рамках суженного представления о своем путешествии и отождествляясь со старыми защитными стратегиями, мы невольно становимся врагами собственного роста, собственной широты души, благодаря повторяющемуся, связанному с историей выбору.
Серьезное отношение к себе начинается с радикального принятия некоторых истин, которые кажутся очевидными для тех, кто стоит вне нас, но пугают то неуверенное эго, с помощью которого мы управляем непростой повседневной жизнью. На ум приходит недавний пример. Один мой знакомый присутствовал на тридцатой встрече выпускников школы и, придя домой, сказал жене, что увидел свою возлюбленную детства и хочет прожить с ней всю жизнь. Его охватила мощная проекция на этого сравнительного незнакомца, и он стремился вернуть молодость, надежду и жизненную силу прошлого, а также подпитать фантазию эмоционального обновления. Эти цели не так уж плохи, но фантазия о том, что роман со старым пламенем приведет к этому, – глубокое заблуждение. Все, кто стоит снаружи, знают об этом, но человек, находящийся в тисках этой бессознательной программы, не может увидеть, что внешняя женщина – это суррогат его внутренней жизни, которой он пренебрегал все эти годы. Проблема с бессознательным заключается в том, что оно бессознательно. Многие ли из нас знают достаточно, чтобы понять, что на самом деле мы знаем недостаточно?
Вторая половина жизни – это непрерывная диалектическая встреча с расходящимися истинами, которые, как правило, довольно трудно довести до сознания, пока мы не будем вынуждены это сделать. Эти истины включают в себя признание того, что это наша жизнь, а не чья-то еще, что после тридцатилетия только мы несем ответственность за то, как она сложится, что мы здесь – лишь мимолетное мгновение в крутящемся челноке вечности и что внутри каждого из нас идет титаническая борьба за суверенитет души. Понять эту реальность, жить с ней, принять ее призыв – значит уже расширить рамки отсчета, через которые мы видим свою жизнь. Какими бы скромными ни были наши обстоятельства, нам необходимо выйти на центральную сцену, где на кону стоят большие вопросы и где мы вовлечены в божественную драму. В своих мемуарах Юнг красноречиво говорит о нашей борьбе:
Я часто видел, как люди становятся невротиками, когда довольствуются неадекватными или неправильными ответами на жизненные вопросы. Они стремятся к положению, браку, репутации, внешнему успеху или деньгам и остаются несчастными и невротичными даже тогда, когда достигают того, к чему стремились. Такие люди обычно находятся в слишком узком духовном горизонте. Их жизнь не имеет достаточного содержания, достаточного смысла. Если дать им возможность развиться в более просторную личность, невроз обычно исчезает.
Несомненно, его слова говорят о самом распространенном и соблазнительном заблуждении нашего времени – о том, что мы можем найти что-то "там" – какого-то человека, социальное положение, идеологическую цель, внешнее подтверждение, – что заставит нашу жизнь работать на нас. Если бы это было правдой, мы бы видели доказательства повсюду вокруг нас. Вместо повсеместного удовлетворения мы видим неистовство популярной культуры, отвлечение праздных людей, ярость лишенных собственности, и лишь изредка – человека, который проходит через эту жизнь с чувством трансцендентной цели, глубокой психической опорой и духовно расширенной жизнью. Развитие более просторной личности, если воспользоваться удачной фразой Юнга, звучит приятно, но редко когда мы растем в этом направлении без того, чтобы старый порядок не был принят во внимание. Как правило, мы растем именно через опыт непрошеных страданий, а не потому, что жизнь без испытаний оказалась легче.
Чтобы ускорить этот переход к более подлинному существованию, полезно лучше узнать, как работает психика. Нам предлагается по-другому взглянуть на наши симптомы. Наше первое, естественное желание – подавить их, но мы должны научиться читать их как подсказки к уязвленным желаниям души или как автономный протест души против нашего неумелого управления. Мы учимся соблюдать дисциплину, которая требует ежедневной проверки жизни: "Что я сделал, почему, и откуда это во мне?" Мы участвуем в программе нашей души, которая требует смиренного отношения и настороженной бдительности. Это требует от нас понимания того, что наша жизнь, даже если она сопряжена с внешними трудностями, всегда разворачивается изнутри. (Юнг с тревогой заметил, что то, что мы игнорируем или отрицаем внутри себя, потом с большей вероятностью придет к нам в виде внешней судьбы). "Так откуда же во мне взялся этот результат, это событие?" – важнейший и потенциально освобождающий вопрос. Чтобы задавать его постоянно, требуется ежедневная дисциплина, повышенная личная ответственность и немалая доля мужества. Это значит, что, как бы мы ни нервничали, мы должны выйти на центральную сцену в той пьесе, которую мы называем своей жизнью, – единственной, которая нам достается.
Остальная часть этой книги проиллюстрирует некоторые из многих вещей, которые мы можем узнать о себе за это время: как работает психика, как мы можем сотрудничать с ней и как мы можем расширить наши путешествия, найти их различные значения и в конечном итоге прожить их для улучшения нашего мира. Эта работа, к которой вы приступаете, отнюдь не упражнение в самолюбовании или самоуничижении. (И пусть никто не говорит вам, что это так!) Качество наших отношений, качество нашего воспитания, качество нашей гражданской позиции и качество нашего жизненного пути никогда не будет выше того уровня личностного развития, которого мы достигли. То, что мы приносим на стол жизни, зависит от того, насколько осознанным было наше путешествие и сколько мужества мы смогли набраться, чтобы прожить его в реальном мире, который преподнесла нам жизнь. Это более осознанное путешествие, требующее жизни в духовной и психологической целостности, – единственное путешествие, которое стоит пройти. В конце концов, отвлекающие, вызывающие зависимость альтернативы окружают нас повсюду, и их печальные свидетельства говорят о том, что более эффективный путь должен заключаться в риске поиска перемен внутри себя.
Эта книга может стать для читателя своеобразным пропуском, предлагающим оставить старые предположения, рискнуть пожить некоторое время среди реальных двусмысленностей жизни и перейти к более значительной роли в ведении своей жизни, чем когда-либо прежде. Это путешествие по самому архаичному, самому пугающему, самому манящему морю – по нашей собственной душе.
Глава вторая Стать тем, кем мы себя считаем
"Теперь я постараюсь спокойно взглянуть на себя и начать действовать внутренне, ибо только так я смогу, как ребенок в своем первом сознательном действии называет себя "я", назвать себя "я" в более глубоком смысле". Сёрен Кьеркегор, Бумаги и дневники
КАК МЫ СОВЕРШИЛИСЬ теми, кто мы есть в этом мире, именно таким способом, который теперь известен окружающим как то, кто мы есть, или, по крайней мере, кем они нас считают? И кем мы себя считаем, тоже можно спросить. Что эго знает, а чего не знает? И не играет ли то, чего оно не знает, большую роль в повседневной жизни? Опять же, то, что не осознается, владеет нами и привносит груз истории в наше настоящее.
Наша жизнь всегда висит на тонкой ниточке. До появления сознания эта нить была пуповиной, ведущей к нашей матери, нашему источнику. Мы плыли во времени и пространстве, пока не существовало ни одной из категорий сознания, когда наши элементарные потребности были удовлетворены, а наш дом был надежно защищен. А потом нас насильно выбросило в этот мир – и с тех пор он никогда не был таким безопасным. У всех народов есть свои племенные рассказы об этом событии, и они почти одинаково представляют его как потерю, упадок, падение из "высшего" сословия. В истории об Эдеме иудео-христианской традиции нам рассказывают, что есть два дерева, с одного из которых можно есть, а другое запрещено. Откусить от Древа Жизни – значит навсегда остаться в мире инстинктов – цельным, связанным и живущим в глубочайших ритмах без сознания. Приобщение к Древу Познания приносит смешанное благословение сознания. Феномен сознания – это одновременно и травма, и великий дар, и эти кажущиеся противоположности навсегда остаются товарищами. Из отделения ребенка от утробы матери рождается сознание, всегда основанное на расщеплении и противоположностях. Рождение жизни – это и рождение невроза, так сказать, потому что с этого момента мы находимся на службе у двух планов – биологического и духовного стремления к развитию, к движению вперед и архаического желания снова погрузиться в космический сон инстинктивного существования. Эти два побуждения действуют в каждом из нас всегда, независимо от того, осознанно мы их воспринимаем или нет. (Если вы являетесь родителем подростка, вы видите эту титаническую драму каждое утро.
Если вы внимательны, вы увидите это и в себе).
Однако наше бытие неизбежно зависит от повторяющихся разлук, повторяющихся развивающих отъездов, все дальше и дальше от архаичного, безопасного места. Дрейфуя в этом танце жизни, мы испытываем ностальгию – слово, греческое происхождение которого означает "боль по дому". Мы должны помнить, что эти две программы – прогрессирования и регресса – борются в нас каждый день. Когда желание "вернуться домой" берет верх, мы предпочитаем не выбирать, спокойно сидеть в седле, оставаться среди привычного и удобного, даже если оно усыпляет и опустошает душу. Каждое утро близнецы-гремлины – страх и вялость – сидят у изножья нашей кровати и ухмыляются. Страх перед дальней дорогой, страх перед неизвестностью, страх перед вызовом величия пугает нас, заставляя вернуться к удобным ритуалам, привычному мышлению и знакомому окружению. Постоянно испытывать страх перед жизненной задачей – это форма духовного уничтожения. С другой стороны, летаргия соблазняет нас вкрадчивым шепотом: откинься назад, расслабься, оцепеней, успокойся на время. …иногда надолго, иногда на всю жизнь, иногда в духовном забвении. (Как посоветовал мне один друг в Цюрихе: "Если сомневаешься, возьми шоколад"). Однако путь вперед грозит смертью – по крайней мере, смертью того, что было привычным, смертью того, кем мы были.
Эту фундаментальную амбивалентность можно увидеть в стихотворении Д.Х. Лоуренса "Змея". В стихотворении рассказчик спускается к деревенскому колодцу, чтобы набрать воды, и встречает там змею, которая царственно восседает на солнце, не обращая внимания на говорящего. Они разглядывают друг друга. С одной стороны, рассказчик восхищается величием существа, с другой – боится его. Невыносимое напряжение нарастает, и оратор бросает в змею свое ведро. Его побуждает к действию осознание того, что змея решает войти в глубины, те самые глубины, которых боится оратор. Он пытается убить свой страх, нападая на животное, подобно тому, как люди нападают на геев за то, что они вызывают неосознанную неуверенность в собственной сексуальной идентичности, или на меньшинства за то, что они просто не такие, как те, что попадают в узкие рамки эго. Страх рассказчика перед глубиной понятен, но в суровом самоосуждении он считает, что встретил одного из властелинов жизни, ужаснулся вызову на большую встречу и теперь должен вечно жить с ничтожной душой.
Ежедневная конфронтация с этими гремлинами страха и вялости заставляет нас выбирать между тревогой и депрессией, поскольку каждая из них пробуждается в результате дилеммы ежедневного выбора. Тревога станет нашим спутником, если мы рискнем перейти на следующий этап нашего путешествия, а депрессия – если не рискнем. Подобно Бабе Яге, чья голова в русских сказках кивает на перекрестке, покачиваясь то в одну, то в другую сторону, мы вынуждены выбирать, хотим мы того или нет. (Или, как сказал известный американский философ Йоги Берра, "Когда вы дойдете до развилки дороги – идите по ней"). Отказ от осознанного выбора пути гарантирует, что его за нас выберет наша психика, и в результате возникнет депрессия или болезнь в той или иной форме. А движение по незнакомой территории активизирует тревогу как нашего постоянного товарища. Очевидно, что психологическое или духовное развитие всегда требует от нас большей способности терпимо относиться к тревоге и двусмысленности. Способность принять это тревожное состояние, смириться с ним и посвятить себя жизни – вот нравственное мерило нашей зрелости.
Эта архетипическая драма повторяется каждый день, в каждом поколении, в каждом учебном заведении и в каждый решающий момент личной жизни. Столкнувшись с таким выбором, выбирайте тревогу и двусмысленность, потому что они всегда развивают, в то время как депрессия регрессирует. Тревога – это эликсир, а депрессия – успокоительное. Первая держит нас на краю жизни, а вторая – в детском сне. Юнг наиболее красноречиво говорил о той роли, которую играет в нашей жизни пугающий страх:
Дух зла – это страх, отрицание… Дух регрессии, который угрожает нам рабством у матери, растворением и исчезновением в бессознательном… . . Страх – это вызов и задача, потому что только смелость может избавить от страха. А если риск не принят, то смысл жизни так или иначе нарушается.
Мать", к которой он обращается, когда-то была буквальным родителем для ребенка, но для взрослого "она" теперь символизирует безопасную и укрытую гавань: старую работу, знакомые теплые руки и ту же неоспоримую и удушающую систему ценностей. Доминирование нашего "материнского комплекса", который имеет мало общего с нашей личной матерью, означает, что мы служим сну, а не задаче жизни, безопасности, а не развитию. Эта архетипическая драма разыгрывается в каждый момент нашей жизни, независимо от того, осознаем мы это или нет. Этот выбор создает наши шаблоны, ценности нашей повседневной жизни и наше разнообразное будущее, независимо от того, знаем ли мы, что делаем выбор, и питается ли этот выбор из глубоких источников души или из нашего судьбоносного, повторяющегося психологического наследия. Борьба за рост ведется не только ради нас самих, она не направлена на самоудовлетворение. Это наш долг и служение окружающим, ведь отступая от привычного, мы приносим им больший дар. И когда мы не справляемся сами, мы не справляемся и с ними. Пражский поэт Рильке выразил этот парадокс следующим образом:
Время от времени кто-нибудь встает с вечерней трапезы, выходит на улицу и идет, и идет, и идет. . .
Потому что где-то на Востоке стоит святилище.
А его дети сетуют, как будто он умер.
И еще один, который умирает в своем доме,
Остается там, среди тарелок и бокалов,
Чтобы его дети вошли в мир
В поисках того святилища, которое он забыл.
Как страшно, что то, что мы не делаем в удивительном приключении этого путешествия, придется делать нашим детям, потому что они будут ограничены нашим печальным примером или перегружены тем, что им придется делать это за нас? В последнем разговоре со своим умирающим отцом, самым лучшим, мягким и добрым человеком, которого я когда-либо встречал, я сказал ему в иррациональный, незапланированный момент: "Папа, я пошел и надрал тебе задницу". Я сказал это в знак благодарности и благословения. Он недоуменно посмотрел на меня. Я на мгновение подумал, что он все понял и гордится мной. Но когда я размышляю об этом спонтанном моменте, у меня возникают сомнения. Насколько то, что я делал, расширяя границы и путешествуя по неизведанным странам, было компенсацией за его непрожитую жизнь или, точнее, сверхкомпенсацией, чтобы помочь искупить гнет его жизни?
Несмотря на этого хорошего человека, я должен спросить, как много в моей жизни было действительно моим, а не каким-то призрачным планом, вытекающим из его. Я вспоминаю, как во время футбольного матча в колледже я намеренно ударил коленом крайнего, который опустился, чтобы блокировать меня, и, не справившись, заехал в меня ногами и ударил по голени. Когда судья выбросил желтый флаг и дал моей команде пятнадцать ярдов за неспортивное поведение, я был горд этим моментом. Насколько эта извращенная гордость объясняется компенсацией за пассивную, непрожитую жизнь моего отца? Когда моя взрослая жизнь была потрачена на расширение возможностей других людей через образование, писательство, терапию, преподавание – насколько это компенсация за нереализованный потенциал жизни моего отца? Почему мое детское "я" стало бы так сильно ориентироваться на задачу расширения прав и возможностей, если бы в глубине души оно не пришло к выводу, что исцеление окружающей среды имеет решающее значение и для его собственного выживания? Насколько это природный талант, служащий природному призванию? Я все еще пытаюсь разобраться во всем этом. Дифференциация различных уровней психики, которые задействованы во всем, что мы делаем, требует времени, терпения, а зачастую и мужества. Эти вопросы тревожат всех нас, но читатель должен задать их, чтобы обрести свободу в тот драгоценный момент, который есть сейчас, в тот момент, который на короткое время принадлежит вам.
Почему трагический смысл жизни имеет для нас значение
Слово "трагедия", как и слово "миф", в наше время было опошлено. Оно стало означать нечто ужасное, катастрофическое, как во фразе диктора новостей: "Трагедия сегодня вечером на скоростном шоссе в Вест-Сайде – пять человек погибли в результате столкновения такси и внедорожника". (У греков действительно было слово для обозначения такого рода событий: катастрофа.) Но мы можем многое узнать о нашей жизни, вспомнив о том, что наши предки прочувствовали двадцать шесть веков назад и воплотили в своем "трагическом видении" или "трагическом чувстве жизни". Их образное представление о человеческой дилемме, диалектической игре судьбы, предназначения, характера и выбора, остается лучшей парадигмой того, как жизненные перестановки разыгрываются на этом ограниченном плане.
Наши предшественники заметили, что мы часто планируем определенный результат, усердно работаем над его достижением, но в итоге оказываемся совсем не там, где ожидали. И, что особенно тревожно, этот измененный курс в значительной степени обусловлен выбором, который сделал предположительно сознательный человек. Как такое может быть, что мы сами себе враги? Они понимали, что в космосе существуют силы, которым подвластны даже боги. Эти силы они назвали Мойра, или "судьба", Софросина, или "что происходит, то происходит", Дике, или "справедливость", Немезида, или "последующее возмездие", и Проэрисмус, "судьба". Сегодня эти силы можно перевести как организующие, уравновешивающие, структурирующие силы космоса – слово, которое само по себе означает "порядок". Когда мы не знаем, как действуют эти силы, а это часто бывает, мы, скорее всего, делаем выбор, который противоречит принципам и энергиям нашей собственной глубинной природы, и тогда мы страдаем от компенсаторной и восстановительной деятельности.
Более того, наши предки верили, что мы часто "обижаем богов", то есть нарушаем энергетические замыслы, драматическими олицетворениями которых они являются. Так, рана, нанесенная Афродите, проявится в интимных отношениях; или одержимый Аресом человек будет действовать в беспричинном гневе со всеми вытекающими последствиями. Соответственно, они верили, что, "читая" текстуру своей жизни, можно выявить игнорируемые или подавляемые архетипические силы, обиженных богов, и предложить им почтение и компенсирующее поведение для восстановления баланса. (Эта древняя практика не так уж далека от современной идеи терапии, которая пытается прочесть текстуру жизни человека, выявить очаг раны и наметить программу, которой подчиняется эго-сознание, чтобы обеспечить коррекцию, компенсацию, исцеление и правильные отношения с душой).