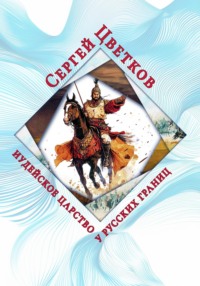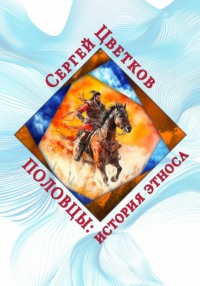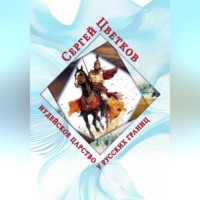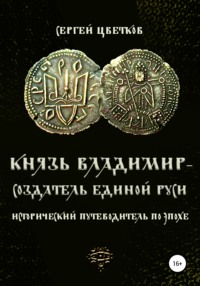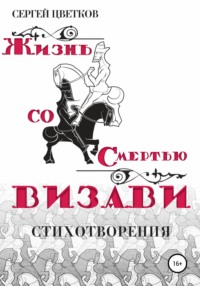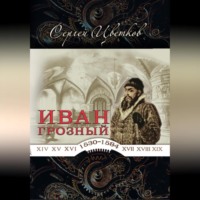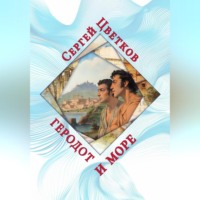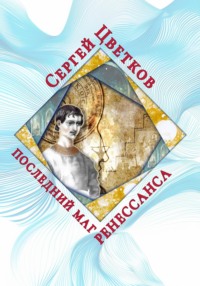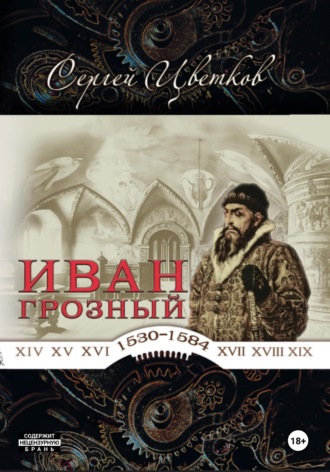
Полная версия
Иван Грозный
Таким образом, подлинная роль Сильвестра в нравственной перемене, происшедшей с Иваном в 1547 году, заключается только в том, что он превосходно понял суть и направление этой перемены и сумел, по крайней мере на первых порах, удовлетворить потребности царя в мудром наставнике. Не надо забывать, что Сильвестр был намного старше и опытнее Ивана. Разумеется, молодой царь, чувствовавший настоятельную потребность в совете, часто использовал Сильвестра «не по назначению», привлекая его к решению тех или иных государственных дел, тем более что в то время они были почти неотделимы от вопросов нравственности и благочестия. Известно, что доверие Ивана к своему духовному наставнику было таково, что он поручал Сильвестру испытывать способности и деловые качества каждого человека, предназначаемого для государственной службы, и признанный им недостойным уже никоим образом не мог получить желаемого места. Понятно, какие широкие возможности для вмешательства в дела управления открывало подобное доверие со стороны государя. Однако Сильвестр, кажется, не слишком злоупотреблял им. Во всяком случае, разрыв между ним и царем произошел, как мы увидим, совсем на другой почве. Характерно, что Грозный, не скупившийся на бранные эпитеты по отношению к своим врагам, сохраняет удивительную сдержанность, когда заводит речь о своем якобы главном «гонителе» Сильвестре: он называет его «невежа поп» – звучит презрительно, но не более. Ненависти к своему наставнику царь все-таки не испытывал – лишнее доказательство того, что никакого «всемогущества» Сильвестра на деле не существовало.
***
Иное дело Адашев – «собака Алексей», как неизменно именует его Грозный в своих писаниях. Он действительно стоял в средоточии всех дел, обнаружив при этом незаурядные деловые качества. Как государственный деятель он был известен и за пределами Московии. В 1585 году Гнезненский архиепископ Станислав Карнковский, расспрашивая московского посла Лукьяна Новосильцева о Борисе Годунове, который только недавно встал во главе правления, и расточая ему похвалы, сравнил его с Алексеем Адашевым, отозвавшись о последнем очень лестно, как о человеке разумном, милостивом и «просужем» (дельном). Курбский пишет, что в Лифляндии, во время Ливонской войны, немало городов готово было сдаться ему «ради его доброты». Милосердие и благочестие Адашева были известны еще шире, чем его государственные таланты, хотя и здесь, видимо, не обошлось без идеализации. Один современник, увлекшийся восхвалением его благочестия, утверждал, что пищей ему служила одна просфора в течение всего дня – вот уж воистину «ангелам подобен»!
Поставленный во главе правительства, Адашев сосредоточил в своих руках нешуточную власть. Достаточно сказать, что все государственные посты постепенно заняли его сторонники и ставленники. Его кротость и милосердие, как, впрочем, и благочестие, преувеличенны. С недовольными он расправлялся решительно, в числе опальных были и деятели Церкви. Правда, ни казней, ни тайных отравлений и удушений при нем все-таки не было.
Тем не менее говорить об узурпации власти Адашевым было бы столь же несправедливо, как и в случае с Сильвестром. Адашев выдвинулся благодаря личной воле царя, подобно «невеже попу», и, вероятно, по тем же причинам. Иван стремился окружить себя «добрыми», благочестивыми советниками, способными «уставить» правду в его душе и в государстве. При этом он искал помощников среди людей незнатных, ибо доверие его к боярам было подорвано давно и бесповоротно. Иван действовал как любой другой государь, стремившийся укрепить свое единовластие, – как, например, действовал Людовик XI, о котором современный ему хронист писал: «Он искал себе сотрудников в безвестной толпе; выбирал людей, которые ничему не учились и в своих успехах руководствовались лишь инстинктом» (это сходство станет еще более явственным после учреждения опричнины); то же самое мы наблюдаем в деятельности Петра I. Разумеется, Иван не мог управить все дела сам, ему нужны были помощники, на которых он мог бы положиться. Он передоверил Адашеву и Сильвестру значительную часть собственной власти; однако ни из чего не видно, чтобы он полностью утратил ее, что ни говори он сам по этому поводу. Известны один-два случая, когда политические стремления правительства Адашева вроде бы шли вразрез с волей царя, – хотя об этом можно спорить; но ни в одном из них сторона Адашева не восторжествовала. Иван умел поставить на своем. Все разговоры о его якобы дряблой воле, которой легко завладевали те или иные его любимцы, не находят подтверждения в реальных фактах истории его царствования. Влияние Сильвестра и Адашева на государственные дела зиждилось на близости к власти, а не на ее узурпации.
Все это можно отнести и к столь широко прославленной «избранной раде», о которой упоминает Курбский. Большинство историков увидели в ней некий неофициальный кружок, интимный кабинет царя, наподобие того, который существовал при Александре I в первые годы его царствования, или даже тайное правительство, прибравшее к рукам молодого Ивана. Действительно, описание Курбским деятельности «избранной рады» напоминает чуть ли не государственный переворот. Но в действиях этого таинственного правительственного органа чересчур много таинственности – так много, что, кроме Курбского, никто из современников о ней и слыхом не слыхивал.
Прежде всего вызывает подозрения ее полнейшая анонимность. Курбский не называет ни одного имени, непонятно даже, принадлежал ли к ней он сам. Бояр, входивших в так называемую ближнюю государеву думу, – князя И.Ф. Мстиславского, князя В.И. Воротынского, князя Д.Ф. Палецкого, бояр И.В. Шереметева-Большого, М.Я. Морозова и двоих Захарьиных, – Курбский к «избранной раде», по всей видимости, не относит. Сам он вступил в ближнюю думу позднее – в 1555-м или 1556 году, когда получил боярский чин. Близость к царю каких-то других людей в этот период не отмечается. Кто же тогда мог входить в эту «избранную раду»?
Другие источники хранят молчание об «избранной раде». Летописи различают Сильвестра, Адашева, бояр ближних и бояр «всех». Грозный в своих посланиях многократно упоминает Сильвестра и Адашева, но ни слова не говорит о каком-то особом совете при них (Курбский ведь и употребил польское слово «рада» для польского читателя, вместо общеупотребительных в Московском государстве терминов «дума», «совет»); более того, он злорадствует, что Сильвестр и Адашев не только «власть с нас снимающе», но и «всех вас бояр начата в самовольство приводити», то есть прямо противоставляет их прочему боярскому окружению. Конкретно царь высказывает недовольство только одним человеком – князем Дмитрием Курлятевым, которого Сильвестр ввел в царское окружение. Остальные враги – бояре и княжата – для него безлики: «вы, злые сущи».
Остается заключить, что «избранной рады» в том смысле, в каком ее обычно понимают, то есть в виде особого кружка при царе, никогда не существовало. Все станет на свои места, если вспомнить о поручении, данном Грозным Сильвестру, – отбирать людей на государственные должности. Курбский свидетельствует, что первые роли стали играть «разумные люди», «добрые и храбрые, искусные и в военном деле, и в земском». Но ведь это и входило в планы царя! Трон Божьего избранника должны были окружить достойнейшие. Термин Курбского «избранная рада» следует понимать не в политическом смысле, а в моральном. Поэтому Курбский и не называет имен: «избранная рада» – это все те, кто окружает царя, перечислять их Курбский не находит нужным, да это было бы и затруднительно.
Все перемены 1547 года при дворе – политические и нравственные – глубоко закономерны: с венчанием Ивана на царство наступил момент, когда рядом с ним неизбежно должны были выдвинуться новые люди. Новое направление требовало новых деятелей. Стремясь покончить с боярским засильем, Иван вынужден был думать о личной безопасности. Царь начал «перебор», просеивание людишек задолго до официального учреждения опричнины. На это обратил внимание уже Ключевский, назвавший Адашева первым опричником. Действительно, весь период правления Сильвестра и Адашева может рассматриваться как первый опыт опричнины, под которой я разумею не столько комплекс социально-политических реформ, сколько личное дело Грозного, некую попытку введения мирской теократии, почти что религиозную доктрину, практическую реализацию идеала Святой Руси (ниже я остановлюсь на этом подробнее). Я даже предлагаю именовать весь этот период первой, или белой, опричниной – в отличие от второй, черной. Опричнина – дело всей жизни Ивана; она полностью выражает и воплощает в себе тот царский, государственный чин, который Грозный завещал своим преемникам на престоле.
Царство небесное, царство земное, Царь на небе, царь на земле – пока еще Грозный чувствует разницу между ними. Он еще молод, и ему одинаково легко дается нести бремя власти и бремя послушания. Единственную свою задачу он видит в том, чтобы просветить подданных светом Божественной истины. Иностранцы, видевшие его в это время, с изумлением пишут, что царь во все входит, все решает, чуждается грубых потех, охоты и развлечений и занят двумя мыслями: как служить Богу и истреблять врагов России. Силы, руководящие его политикой, – милосердие Божие, милость Пресвятой Богородицы, молитвы всех святых и благословение прежних государей. Себя Иван ощущает лишь орудием этих живых начал. Он полон благих намерений, которыми с радостным сердцем мостит дорогу своей жизни – дорогу в ад абсолютной свободы, эту преисподнюю земного бога.
Глава 3. УСТРОЕНИЕ ПРАВДЫ
Считай, великий князь, того истинным царем самодержцем, который заботится устроить жизнь своих подданных.
Максим Грек
После падения Глинских вокруг Ивана впервые образовалась идейная среда. К управлению государством были привлечены лучшие силы – наиболее образованная часть духовенства во главе с митрополитом Макарием и опытнейшие думские и прочие чины, «искусные в военном и земском деле». Возникло одно из наиболее замечательных правительств в истории России, проникнутое сознанием, что государство есть не только государева вотчина, но известная организация, имеющая в виду обеспечение интересов общества, что дело государственное есть дело земское, а не только государево.
Новое правительство сложилось, конечно, не сразу. Сильвестру и Адашеву удалось быстро сокрушить Глинских и их клевретов, но собирание вокруг трона «мужей разумных и совершенных» требовало времени. Новые веяния становятся заметны не ранее 1549 года. Остаток же 1547-го и весь 1548 год прошли в привычной рутине: зимой без особых результатов сходили под Казань, летом царь предпринял богомольные походы по монастырям, осенью отъехал в «объезд», сочетая осмотр владений с охотой и поездками по дальним святым местам. Постороннему взгляду не видно, чтобы государственные дела более чем обычно занимали Ивана. Но в тишине государевых покоев «доброхотающие» друзья царя напряженно обдумывают планы реформ, предназначенных водворить правду в русской земле. И юный государь не остается лишь сторонним наблюдателем этой смелой и кропотливой работы.
Осуществление преобразований началось в первые месяцы 1549 года.
Прежде всего состоялось примирение царя с боярством. 27 февраля Иван «в своих царских палатах перед отцом своим Макарием митрополитом и пред всем освященным собором» сказал боярам особой важности речь, предметом которой были их бывшие злоупотребления. Речь эту слушала вся боярская дума. Иван говорил, что «до его царского возрасту от них и от их людей детям боярским и крестьянам чинилися насилия и продажи и обиды великие в землях… и они бы впредь так не чинили, детям бы боярским и крестьянам от них и от их людей насилия и продажи и обиды во всяких делах не было никаких, а кто кому учинит впредь насилие или продажу или обиду какую, и тем от меня, царя и великого князя, быти в опале и в казни».
На это в общем-то огульное обвинение дума ответствовала прилично и с достоинством: бояре просили, «чтобы государь их пожаловал, сердца на них не держал, они же хотят служить ему, как служили и добра хотели его отцу и деду», а с теми, кто на них жалуется, позволил бы государь держать суд.
Всем этим Иван их пожаловал и заключил:
– С этого времени сердца на вас в тех делах не держу и опалы на вас никого не положу, а вы бы впредь так не чинили.
В тот же день схожую речь царь говорил «воеводам, и княжатам, и боярским детям, и дворянам большим». А 28 февраля для пресечения боярских злоупотреблений царь с думой «уложил, что во всех городах Московской земли наместникам детей боярских не судити ни в чем, опричь душегубства и татьбы и разбоя с поличным». Иными словами, из ведения наместников были изъяты все гражданские дела; тем самым для них была в корне пресечена возможность неправого суда и лихоимства.
Примирение царя с боярством было искренним: за тринадцать последующих лет не свершилось ни одной казни. Женив своего младшего брата, князя Юрия Васильевича, царь позволил жениться и своему двоюродному дяде, князю Владимиру Андреевичу Старицкому; супругой его стала Евдокия Нагая. Это был важный шаг – тем самым Иван, еще не имевший наследника, позволял иметь потомство единственному своему родственнику, обладавшему согласно удельным традициям законным правом на престол. Царь, видимо, верил, что примирение было искренним и с другой стороны. И брата, и дядю он чтил и присоединял их имена к своим в государственных указах: «Мы уложили с братьями и боярами…»
Дело обновления государства и общества Иван начал с себя. Он сам решил объявить народу, что пора безначалия миновала. «Видя свое государство в великой туге и печали от насилия сильных и от неправды, – говорит летописец, – умыслил царь смирить всех в любовь и советовался с отцом своим, Макарием митрополитом, как бы… крамолы и неправды разорить. И повелел собрать свое государство из городов всякого чину», то есть выборных от всей земли.
Перед всенародной проповедью идей гражданского и сословного мира Иван постарался очистить свое сердце и душу от всякой скверны. Он уединился на несколько дней для поста и молитвы; затем, созвав святителей, умиленно каялся перед ними в грехах и, прощенный ими, причастился Святых Тайн. Его волнение вполне понятно. Земский собор 1550 года был явлением новым и величественным в русской истории. В старину веча и соборы существовали в некоторых городах и княжествах, но раздробленность Руси не давала возможности созыва представителей всей земли. Теперь, с объединением русских земель, такая возможность явилась. К сожалению, мы не знаем ни количества земских выборных, ни состава собора, ни полномочий, которыми он был наделен. Летопись сохранила только блестящую картину царского покаяния среди взволнованного людского моря, затопившего Красную площадь. Истины ради следует заметить, что речи Ивана на этом соборе, скорее всего, являются ораторскими упражнениями самого летописца, причем более позднего времени; но, ставя под сомнение их форму, нет оснований подозревать в искажении их содержание.
Итак, в воскресный день после молебна Иван торжественно вышел из Кремля на Лобное место и обратился вначале к митрополиту:
– Молю тебя, святой владыка! Будь мне помощник и любви поборник. Знаю, что ты добрых дел и любви желатель. Знаешь сам, что я после смерти отца своего остался четырех лет, после матери – восьми. Родственники обо мне не заботились, а сильные мои бояре и вельможи обо мне не радели и самовластны были, сами себе чины и почести похищали моим именем, богатели и теснили народ. Я, по молодости моей и беспомощности, был глух к жалобам, и не было обличения на устах моих, а они властвовали! О, несправедливые лихоимцы и хищники и судьи неправедные! Какой теперь дадите нам ответ, что многие слезы воздвигли на себя? Я чист от крови сей, вы же ожидайте воздаяния небесного!
Затем, поклонившись во все стороны, он продолжал, обращаясь к народу:
– Люди Божии, дарованные нам Богом! Умоляю вас, ради веры в Бога и любви к нам! Теперь нам ваших обид и разорений исправить уже нельзя. Молю вас, оставьте друг другу вражды и обиды, кроме самых больших дел. В этих делах, как и в новых, я сам буду вам судья и оборона, буду неправды разорять и похищенное возвращать.
Тут же, при всех он пожаловал Алексея Адашева в окольничие и поручил ему рассмотрение жалоб на злоупотребления властей.
– Алексей! – ободрил его Иван. – Изъял я тебя из нищих и самых незначительных людей. Слышал я о твоих добрых делах и теперь взыскал тебя выше меры твоей для помощи души моей… Не бойся сильных и славных, похитивших почести и губящих своим насилием бедных и немощных. Не смотри и на ложные слезы бедного, клевещущего на богатых, но все рассматривай внимательно и приноси нам истину, боясь одного Божьего суда. Избери судей правдивых от бояр и вельмож.
Возвратимся еще раз к вопросу о Сильвестре. Как видим, Иван четко очертил круг полномочий Адашева. В переводе на современный политический язык Адашев стал первым министром и одновременно главой Верховного суда. Митрополит Макарий обеспечивал, так сказать, идеологическую сторону реформ. Сильвестр не упомянут ни словом – лишнее подтверждение тому, что подлинная сфера его влияния ограничивалась домашним обиходом царя.
Царь сам входил во все важнейшие государственные и судебные дела, чтобы исполнить обет, данный им Богу и России. «Сед на великое царство державы своей благоверный великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси самодержец, вся мятежники старые изби, владевшие царством его неправдою до совершенного возраста его, и мнози вельможи устраши от лихомания и неправды… и правяше царство свое добре. Кроток и смирен бе, и праведен в суде и ко всем милостив – к воинским людям и простым».
Своим всенародным покаянием Иван нравственно очистил власть, восстановил пошатнувшееся доверие к ней. Теперь можно было приступать к реформам.
В исправлении нуждалась вся русская жизнь.
О нравственности людей того времени следует судить не по «Домострою». Тут уместнее вспомнить совет Стендаля – почаще заглядывать в уголовную хронику, чтобы узнать о том, что в действительности творится в человеческих душах. Документы и записки современников свидетельствуют, что эпоха «Святой Руси» была на исходе.
Владыка в своей епархии напоминал собой удельного князя. У него был совет из собственных бояр, которые управляли и судили в епархии с докладом владыке. Белое духовенство и монастыри были обложены им многочисленными податями: данями зимними и летними, пошлинами на въезд и выезд из подвластных владыке земель; со священников собирали благословенную куницу (подать при вступлении в должность), перехожую куницу (при переходе из одного прихода в другой), соборную куницу; с населения брали людское, полюдную пшеницу, казенные алтыны, венечную пшеницу (с невесты), убрус6 (с жениха), десятину и прочее. Владыки раздавали свои земли и поместья детям боярским без права наследования, и эти служилые люди должны были служить владыке, хотя в то же время призывались и на государственную службу. В судах владычные наместники всячески притесняли сельских священников и незнатных дворян и детей боярских.
Свет монастырской – «ангельской» – жизни померк. Многие постригались ради покоя телесного, чтобы бражничать и ездить по монастырским селам «для прохлады». Другие монахи по миру «волочились» и жили в миру, не зная, что такое монастырь. Старец поставит в лесу келью или церковь да идет по миру с иконой просить на свое содержание, а у царя земли просит, так что людям только соблазн. Черницы, с распущенными волосами, нагие, босые, скитались по городам и деревням, объявляя свои сны, видения и пророчества, – что явилась им святая Пятница или святая Анастасия и заповедала, чтобы в среду и пятницу христиане ничего не делали, чтоб женщины не пряли, белья не мыли и очага не разжигали – или собирали деньги под предлогом сооружения церкви. Архимандриты и игумены добивались сана взятками, лишь бы получить власть. Современники говорили о них: службы церковной не знают, а покоят себя в келиях с гостями да племянников своих содержат в монастырях, монастырь же опустошают, так что братия беднеет, страдает от голода и жажды, томится всякими нуждами… Своим же крестьянам епископы и архимандриты дают деньги и хлеб в рост, и от такой тяготы села пустеют. Вкладчики, в порыве благочестия отдавшие в монастырь все свое достояние, чтобы доживать там свою старость, терпят холод и голод и всякие оскорбления от начальствующих, которые уже не дорожили ими, зная, что получить с них больше нечего. В монастырях курили вино, варили меды и пиво, закатывали пиры. Были монастыри, где иноки и инокини жили вместе. Нередко в обителях можно было встретить «ребят голоусых», по возрасту еще не подходивших для пострижения.
Обличениям и жалобам нет конца. Бесчинствуют архимандриты, бесчинствует братия. Монастырское общежитие или согнуто в дугу, или вконец развращено. Братия Кирилло-Белозерского монастыря била челом царю о старце Александре: «Живет, государь, этот Александр не по чину монастырскому: в церковь не ходит, а строит пустыню, где и живет больше, чем в монастыре; монастырь опустошает, из казны, погребов, с сушила всякие запасы, из мельницы муку и солод, из сел всякий хлеб берет и отсылает к себе в пустыню; приехавши в монастырь, игумена и старцев соборных бранит… а других старцев из собору выметал и к морю разослал; прочую братию, служебников и клирошан, колет остком и бьет плетьми, без игуменского и старческого совета, и на цепь и в железа сажает… и от тех его побоев и гроз братия бежит розно… Общежительство Кирилловское он разоряет, слуг и лошадей держит особенных, саадаки7, сабли и ружницы возит с собою, солью торгует на себя, лодки у него ходят отдельно от монастырских».
В миру большая часть церквей стояла пустой. То была своеобразная черта русского благочестия: под влиянием сна или видения, по обету или вследствие избавления от беды построить церковь ради спасения души своей, назначить «руту» на ее содержание, найти какого-нибудь бродячего монаха или священника для отправления служб… А когда порыв благочестия минует, поступления в храмовую казну прекращаются, и священник идет дальше по миру искать другого пропитания. «По моему расчету, – пишет один иноземец, – в Русской земле около 10 000 церквей стоят пустыми, может быть, даже и больше, но не меньше: в них русского богослужения не совершается. Несколько тысяч церквей уже сгнило».
В действующих церквях попы и причетники бывали на службе пьяны, говорили друг другу непотребные речи, а подчас и бились между собою; миряне, смотря на это, также нимало не церемонились и в храмах «все равно как на торжищах и играх, или на пиру и в корчмах, лаялись без стыда скаредными и богомерзкими речами». В народе и среди священнослужителей процветали языческие обряды и суеверия. На Иванов день, в сочельник и другие христианские праздники «сходятся мужи и жены и девицы на бесовские песни и плясания, в великий четверг на заре солому палят и кличут мертвых, а некоторые попы тогда соль под престол кладут и держат ее до седьмого четверга по великому дню и ту соль раздают на врачевание людям и скоту». «Домострой» советует шестьсот раз в день читать такую-то молитву, чтобы через три года в молящегося вселилась Святая Троица. Гадательные книги – Рафли, Аристотелевы врата, Шестокрыл, Воронограй, Альманах – соперничали в популярности с житиями и писаниями Святых Отцов. Скоморохи являлись одновременно колдунами и толкователями снов, и Церковь была бессильна вразумить льнувшую к ним паству. Чародеи избавляли человека от Гнева Божия, давая ему носить под левой мышкой правый глаз орла, завернутый в тряпицу. В полуязыческие, магические действа была вовлечена и небесная рать: святой Никита, например, избавлял от демонов; не были забыты и другие святые и ангелы.
Долгое безначалие наверху самым скорбным образом сказалось на гражданском общежитии. Челобитные от разных правительственных лиц вопиют, что дети боярские вместе со всякими бражниками зернью (в кости) играют и пропиваются, службы не служат, не промышляют и от них всякое зло чинится – крадут и разбойничают и души губят. Один иностранец замечает: «Пьянства так много, что нельзя и поверить… Пропив деньги, закладывают кафтаны, даже шапки, сапоги, рубахи – все, что ни есть за душой, да и бегут нагишом домой». Другой пишет: «Страна была наполнена грабежами и убийствами. Жизнь человеческая ставилась ни во что. Вы можете видеть, как грабят человека, запоздавшего в городе на улице, и никто не ответит на его крики, не переступит порога, чтобы помочь ему». Русские источники дорисовывают картину общего растления, войны всех против всех. Новгородский епископ Феодосий извещает царя, что «в корчмах беспрестанно души погибают без покаяния и без причастия; в домах, на дорогах, на торжищах, в городе, по погостам убийства и грабежи великие, проходу и проезду нет». С убийцами мирились за вознаграждение, не доводя дело до суда. Во время пожаров вместо помощи грабили имущество погорельцев.