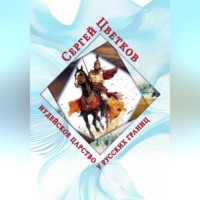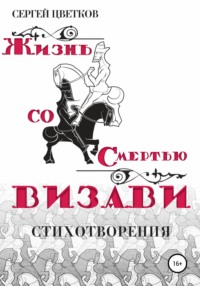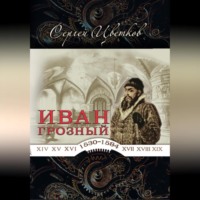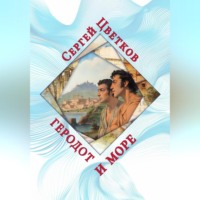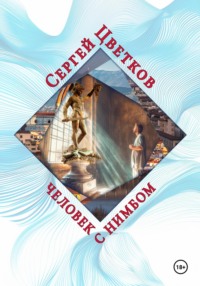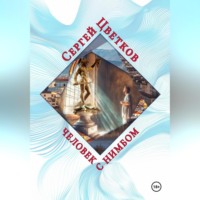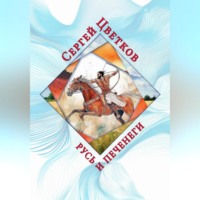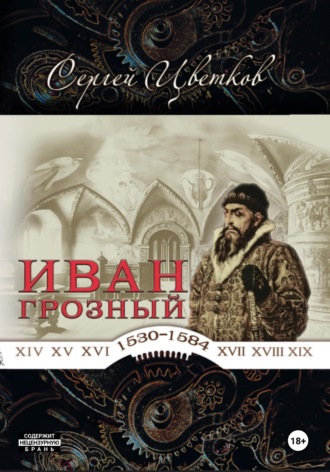
Полная версия
Иван Грозный
Венчание на царство состоялось, как того и желал Иван, прежде женитьбы – 16 января 1547 года, в воскресенье. Утром государь вышел в столовую палату, где его дожидались думные и ближние бояре, а прочие воеводы, князья и дворяне, разодетые в праздничные платья, стояли в сенях. Царский духовник, Благовещенский протопоп Федор, в сопровождении царева дяди, князя Михаила Глинского, казначеев и дьяков торжественно отнес на золотом блюде животворящий крест, венец и бармы Мономаха в Успенский собор. Вскоре туда же отправился сам великий князь; его духовник шел перед ним с крестом и святой водой, кропя на обе стороны праздничную толпу. В Успенском соборе Иван приложился к иконам, певчие возгласили ему многолетие, митрополит Макарий благословил его. Посреди храма, на амвоне с двенадцатью ступенями, было приготовлено два места, убранные золотыми наволоками; в ногах были постланы бархаты и камки. На эти места сели Иван и Макарий слушать торжественный молебен. По окончании молебна оба встали, и митрополит возложил на великого князя крест, бармы и венец, громогласно молясь, чтобы Всевышний оградил сего христианского Давида силою Святого Духа, посадил его на престол добродетели, даровал ему ужас для строптивых и милостивое око для послушных. Обряд закончился провозглашением многолетия новому государю и поздравлением митрополита:
– Радуйся и здравствуй, православный царь Иоанн, всея Руси самодержец на многие лета!
Приняв поздравления от всех присутствующих и выслушав литургию, Иван отправился во дворец, ступая с бархата на камку, с камки на бархат. Младший брат, князь Юрий Васильевич, осыпал его в церковных дверях и на лестнице золотыми монетами из мисы, которую нес за ним князь Михаил Глинский. Едва царь вышел из собора, как народ, дотоле благоговейно молчавший, с шумом ринулся обдирать царское место: всякому хотелось получить на память или на разживу лоскут золотой паволоки.
Весь этот обряд был повторением венчания князя Дмитрия, внука Ивана III, с некоторой переменой в словах молитвы и с той разницей, что Иван III сам надел венец на голову внука. Летопись не упоминает ни о передаче Грозному скипетра, ни о миропомазании, ни о причащении, ни о том, чтобы Макарий при сем случае говорил государю поучение. Впрочем, все это не столь существенно. Иван стал первым русским царем не потому, что над ним впервые исполнились те или иные обряды, а потому, что он первым понял все политическое и мистическое значение царской власти.
Иван и Макарий придавали венчанию на царство значение вселенского церковного деяния: в соборном утверждении по этому случаю Грозный назван «государем всех христиан от Востока до Запада и до океана». Поэтому они нашли необходимым укрепить принятие царского титула соборным письменным благословением греческих святителей со вселенским патриархом Константинопольским Иоасафом во главе. Ответа пришлось ждать долго: видимо, московский акт 1547 года застал восточную Православную Церковь врасплох. Лишь в 1561 году Иван получил утвердительную грамоту за подписью тридцати шести греческих митрополитов и епископов. Любопытно, что восточные иерархи признали московское сказание о царском венчании Владимира Мономаха. «Не только предание людей достоверных, – гласит их грамота, – но и самые летописи свидетельствуют, что нынешний властитель Московский происходит от незабвенной царицы Анны, сестры императора Багрянородного, и что митрополит Эфесский, уполномоченный для того собором духовенства Византийского, венчал Российского великого князя Владимира на царство».
Русские книжники и вообще все образованные русские люди того времени придавали огромное значение венчанию Ивана царским венцом – в его сиянии они видели отблеск возросшей мощи и славы России. Всеобщее воодушевление было неподдельным. Даже новгородская летопись, которую не заподозришь в избытке симпатий к Москве, отозвалась на это событие восторженным панегириком: «И наречеся царь и великий князь, всея великия России самодержец великий… и страх его обдержаше все языческие страны, и бысть вельми премудр и храбросерд, и крепкорук, и силен телом и легок ногами, аки пардус (гепард. – С. Ц.), подобен деду своему, великому князю Ивану Васильевичу; прежде же его никого из прадедов его царем не славяше в России, никто из них не смел поставитися царем и зватися тем новым именем, опасаясь зависти и восстания на них поганых царей».
В непомерном самомнении шестнадцатилетнего юноши Россия обретала национальную идею и впервые осознавала величественную исключительность своего государственного бытия.
***
Той же зимой, еще недели за две до венчания, князьям, боярам, детям боярским и дворянам всей русской земли была разослана грамота о намерении государя взять себе жену в своем государстве и велено было свозить своих дочерей в уездные города и столицу на смотр невест. Доверенным лицам великого князя давался наказ о внешних данных кандидаток, а также мера возраста и роста, с которой ездили осматривать невест в Византии. После смотра все избранные красавицы вносились в особую роспись, с назначением приехать к известному сроку в Москву, где их ждал уже более придирчивый осмотр наиболее приближенных к царю людей. Затем красивейших среди избранных девиц осмотрел сам Иван – тоже после многого «испытания». И наконец одну-единственную избранницу торжественно ввели в особые царские хоромы и до времени свадьбы отдали на попечение боярынь, постельниц и ее женской родни – матери, теток и прочих. Здесь с молитвой наречения на нее возложили царский девичий венец и впервые нарекли царевною. По московским церквам и всем епископствам разослали наказ молить о здравии царевны и поминать ее на ектеньях вместе с именем государя.
Невесту Ивана звали Анастасией. Она была дочерью умершего окольничего Романа Юрьевича Захарьина-Кошкина, принадлежавшего к одному из самых знатных и древних московских боярских родов, и племянницей Михаила Юрьевича Захарьина, ближнего боярина Василия III, одного из опекунов малолетнего Ивана. Может быть, последнее обстоятельство и сыграло решающую роль в выборе царской невесты – уж очень малый срок отделяет начало смотрин от свадьбы. Лояльность всего рода Захарьиных по отношению к великокняжеской семье несомненна. Другой дядя Анастасии, Григорий Юрьевич, не принадлежал к стороне Шуйских и не упоминается в боярских смутах времен малолетства Ивана. Брат Анастасии, Никита Романович (дед первого царя из династии Романовых – Михаила Федоровича), позже стал любимым героем народных песен: он всегда принимает сторону Грозного в борьбе против изменни- ков-бояр, и царь только к нему одному относится с большим сочувствием. По скудным историческим известиям, Никита Романович действительно был одним из двух бояр, которые сохранили свое влияние и значение до самой смерти Грозного (вторым был князь Иван Федорович Мстиславский).
Церковная традиция связала две царствующие династии – Рюриковичей и Романовых – узами преемственности. В житии преподобного Геннадия Костромского говорится: «Некогда же случися святому прийти в Москву, и прият был честно от болярыни Иулиании Федоровны, жены Романа Юрьевича, благословения ради чад ее, Даниила и Никиты, и дщери ея, Анастасии Романовны». Благословляя детей прабабки Михаила Романова, прозорливый Геннадий сказал Анастасии: «Ты, ветвь прекрасная, будешь нам царицею».
Свадьба была сыграна 3 февраля. В свадебных обрядах участвовало очень мало бояр – только родня царя и Анастасии Романовны. Это позволяет заключить, что и здесь Иван не встретил полного единодушия и сочувствия своему выбору. Вероятно, знатные княжеские роды, Рюриковичи и Гедиминовичи, не одобрили того, что царь оказал предпочтение дочери московского боярина, в общем-то своего холопа, стоявшего, по местническому счету, чрезвычайно низко.
После обряда венчания митрополит сказал новобрачным:
– Днесь таинством Церкви соединены вы навеки, чтобы вместе поклоняться Всевышнему и жить в добродетели, а добродетель ваша есть правда и милость. Государь, люби и чти супругу. А ты, христолюбивая царица, повинуйся ему. Как святой крест – глава Церкви, так муж – глава семьи. Исполняя усердно все заповеди Божии, узрите благой Иерусалим и мир во Израиле.
Летопись приписывает Анастасии большое влияние на супруга: «Предобрая Анастасия наставляла и приводила его на всякие добродетели»; ее смертью объясняли внезапную перемену в характере и поведении Ивана. Какую-то не вполне ясную политическую роль она и в самом деле играла, однако мы не знаем ни одного события или поступка в жизни Грозного, которые позволяют говорить о каком бы то ни было нравственном влиянии на него со стороны его первой жены. Их тринадцатилетняя жизнь для нас – безмолвная тайна: ни единого словечка, ни строчки письма, ни вздоха… Известно лишь, что Иван вроде бы сильно горевал о ее смерти. А через неделю решил жениться вторично.
Часть вторая. БЕЛАЯ ОПРИЧНИНА
Он в юности добра не обещал.
Едва отца дыханье отлетело,
Как необузданные страсти в сыне
Внезапно умерли; и в тот же миг,
Как некий ангел, появился разум
И падшего Адама прочь изгнал,
Преображая тело принца в рай,
Обитель чистую небесных духов.
Никто так быстро не обрел ученость
И никогда волна прекрасных чувств
Так бурно не смывала злых пороков,
И гидра своеволья никогда
Так быстро недр души не покидала,
Как в этот раз.
У. Шекспир. Король Генри V
Глава 1. МОСКОВСКИЙ ПОЖАР
Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный.
А.С. Пушкин. Капитанская дочка
Торжества при дворе по случаю царской свадьбы почти совпали по времени с большими пожарами в Москве. 12 апреля, на Пасхе, погорели лавки со многими товарами и казенные гостиные дворы в Китай-городе. У Москвы-реки в стрельнице (арсенале) вспыхнуло пушечное зелье: взрыв разорвал стрельницу и разметал кирпичи по берегу и в реку. Через неделю пожар повторился в кварталах за Яузой: погорели гончары и кожевники; пламя полыхало по всей Яузе до самого устья.
Погорельцы завалили царя жалобами и прошениями. А 3 июня в Москву явились еще и семьдесят псковских людей жаловаться на своего наместника князя Турунтая-Пронского, ставленника Глинских. Они нашли государя в его подмосковном селе Островке. Раздраженный и издерганный Иван не стал и слушать жалобщиков – закипел гневом, велел положить их раздетыми на землю, поливать горячим вином и подпалить бороды. Несчастные уже ждали смерти… Вдруг пришла весть, что в Москве, в одной из церквей, когда зазвонили к вечерне, упал колокол-благовестник. Иван прекратил мучительство и поспешил в столицу.
Падение колокола считалось на Руси предвестием бедствий. Встревоженные москвичи стали ждать других предзнаменований неведомого несчастья – и они не замедлили последовать. Был на Москве юродивый Василий, которого чтили как блаженного угодника Божия. Летом и зимой он ходил нагишом, «как Адам первозданный». Любому его слову москвичи внимали как пророчеству. И вот в полдень 20 июня его увидали возле церкви Воздвиженья на Арбате – он глядел на храм, обливаясь горючими слезами. В народе ужаснулись: Божий человек чует беду! Люди чувствовали себя покинутыми и беззащитными…
И действительно, на другой день в этой самой церкви вспыхнул пожар. Тут же, как по чьему-то злому колдовству, на Москву налетела буря, и сильный ветер разнес пламя по крышам соседних деревянных зданий. Дальше огонь потек, как молния, и за какой-нибудь час обратил в пепел все Занеглинье и Чертолье (Пречистенку). Порывы ветра перебросили его за каменные стены Кремля: загорелись главы Успенского собора, потом занялись деревянная кровля царского дворца, оружейная палата, постельная палата с домашней казной, царская конюшня и разрядные избы; огонь проник даже в погреба под палатами. «Железо рдело, как в горниле, медь текла» (Карамзин). В златоверхой придворной церкви Благовещенья безвозвратно погиб обложенный золотом иконостас работы Андрея Рублева и все иконы греческого письма, собранные стараниями прежних великих князей «от многих лет» и украшенные золотом и бисером «многоценным». Сгорели кремлевские Чудов и Вознесенский монастыри. В Успенском соборе иконостас и утварь уцелели, но митрополит Макарий, находившийся там, едва не задохнулся от дыма; он вышел, неся образ Богородицы, написанный митрополитом Петром чудотворцем, и попытался укрыться вместе с другими беглецами под кремлевской стеной – в подземном тайнике, проведенном к Москве- реке. Однако удушливый дым заполз и сюда, сделав пребывание в подземелье невозможным. Митрополита стали спускать на канате к реке, но канат оборвался, и Макарий расшибся так сильно, что едва мог прийти в себя; его отвезли в Новоспасский монастырь.
Пока что горела только сердцевина города. Но вот огонь добрался до пороха, хранившегося в стенах Кремля. Прогремели страшные взрывы, заглушившие вопли людей и треск пламени, и пожар перекинулся на Китай-город – он выгорел весь, за исключением двух церквей и десяти лавок. Наконец заполыхали посады, и вся Москва оказалась в огненном кольце. «И всякие сады выгорели, и в огородах всякий овощ и трава». Число сгоревших людей не поддавалось учету: говорили, что погибло 1700 взрослых и несчетное множество детей. Пламя угасло лишь в три часа ночи, но развалины курились еще несколько дней…
Царя с женой и двором не было в Москве во время пожара – Иван находился в селе Воробьево на Воробьевых горах и оттуда наблюдал, как его столица превращалась в пепел. На следующий день он навестил в Новоспасском монастыре митрополита. Бедствия народа мало его заботили; прежде всего он повелел поправлять церкви и палаты на своем царском дворе. Спешили строиться и бояре. Простые погорельцы были брошены на произвол судьбы.
Между тем бедствие было неслыханное – оно сохранилось в летописях под именем «великого пожара». Большая часть москвичей осталась без хлеба и крова, множество семей лишилось кормильцев. Отчаявшиеся люди, с опаленными волосами и почерневшими лицами, искали виновников случившегося несчастья. Поползли слухи о злом умысле, о колдовстве… Этим воспользовались дядя царицы Анастасии, Григорий Юрьевич Захарьин, царский духовник отец Федор Бармин, князь Федор Скопин-Шуйский, боярин Иван Петрович Челяднин, князь Юрий Темкин и другие, недовольные тем, что Глинские находятся у государя «в приближении и жаловании».
26 июня, в воскресенье, эти бояре собрали на площади перед Успенским собором толпу черных людей и начали спрашивать: кто зажигал Москву? Затесавшиеся в толпу подученные люди закричали в ответ:
– Княгиня Анна Глинская со своими детьми волхвовала: вынимала сердца человеческие да клала в воду да тою водою, ездя по Москве, кропила – оттого Москва и выгорела!
Глинских в народе не любили, как за их всемогущество, так и за то, что они опирались на выходцев из Северской земли и Южной Руси, которые, пользуясь их покровительством, творили в Москве своеволия и бесчинства. Поэтому навет на них встретил среди москвичей полное доверие. Послышались крики, требующие истребить изменников. Случилось так, что один из Глинских, Юрий Васильевич, родной дядя царя, как раз подъехал в эту минуту к Успенскому собору (другой царский дядя, Михаил Васильевич, со своей матерью, княгиней Анной, находился в своем поместье во Ржеве). Увидав возбужденную толпу и смекнув, что дело неладно, Юрий Васильевич решил переждать бурю под всевышней защитой и скрылся в соборе. Однако его заметили. Раздались негодующие вопли, в воздухе запахло кровью. Толпа бросилась в собор и в одно мгновение растерзала ненавистного вельможу; труп его выволокли из Кремля и бросили на торгу, где казнили преступников. Затем перепластали всех слуг, с которыми князь Юрий приехал в Кремль, а заодно с ними и боярских детей, севрюков. Эти служилые люди, приехавшие из Северской земли, просто попались под горячую руку. Они пытались оправдаться, но толпа, услышав в их речи тот же говор, как и у людей Глинского, не поверила им: «Вы все их люди, вы зажигали наши дворы и товары!»
Два дня Москва находилась в руках взбунтовавшейся черни. Растерявшийся Иван не предпринимал никаких мер, чтобы утихомирить мятежников и наказать виновных в убийстве Глинского. Впрочем, казалось, что народ, как нашалившее дитя, опомнился и образумился… Вдруг на третий день волнения возобновились. Кто-то сеял слухи, что государь укрывает у себя на Воробьеве княгиню Анну и князя Михаила Глинских. Толпа хлынула на Воробьевы горы. На этот раз летопись не называет имен зачинщиков нового мятежа, и все дело выглядит почином самой толпы. Однако, верно, кто-нибудь за всем этим все-таки стоял: опыт тайных политических полиций всех стран и всех времен отрицает существование стихийных беспорядков. И скорее всего, тайными вдохновителями похода на Воробьево были все те же бояре. Но ведь им было хорошо известно, что Глинских там нет. Не значит ли это, что тайной мишенью смутьянов был сам царь, который более чем вероятно мог стать жертвой взбешенной толпы? Или, быть может, целью заговорщиков было припугнуть Ивана, чтобы добиться от него каких-то уступок? Во всяком случае, сам Иван воспринял случившееся как покушение против себя лично и впоследствии говорил, что в ту минуту, когда увидел толпу бунтовщиков, подумал, будто его самого обвиняют в поджогах и хотят убить. Он был страшно напуган, однако быстро овладел собой, велел схватить крикунов и казнить. Оставшись без заводил, толпа рассеялась…
Никто из бояр не был наказан. Но могущество Глинских рухнуло. Перемены все-таки последовали – при дворе появились новые люди.
Глава 2. «ПЛЕНЕННЫЙ ЦАРЬ»
Я царь, я раб…
Г.Р. Державин
Первым новые веяния в Кремле почувствовал, кажется, другой дядя царя, князь Михаил Глинский. Во время московских событий 1547 года он, как было сказано, укрывался в своих ржевских поместьях. Затем он вдруг устремился в Литву, прихватив с собой своего ставленника и угодника, псковского наместника князя Ивана Ивановича Турунтая-Пронского. По дороге беглецы заблудились в «великих тесных и непроходимых теснотах» ржевской украйны и в конце концов повернули в Москву с повинной. Свой поступок они объяснили тем, что «от неразумия тот бег учинили, обложася страхом» от убийства князя Юрия Глинского. Но чего им было бояться? Мятеж быстро утих, и царь уже вскоре праздновал свадьбу младшего брата князя Юрия Васильевича с княжной Палецкой. Жизнь вроде бы идет обычным порядком, а родной царев дядя бежит в Литву, вместо того чтобы веселиться на свадьбе младшего племянника; с ним дает деру и бывший крупный сторонник князей Шуйских, которому в дни июньского погрома и вовсе не грозила никакая опасность. Значит, при дворе случилось нечто, от чего бывшие всемогущий временщик и угнетатель псковичей предпочли держаться подальше, спасаясь, быть может, от заслуженного возмездия.
Все сохранившиеся источники, повествующие о московском пожаре и бунте 1547 года, единодушны в том, что эти события потрясли Ивана – «страх вошел ему в душу и трепет в кости». На его глазах море огня затопило и пожрало большую часть Москвы; перед ним бушевал народ, над которым по воле Божьей он был призван царствовать, и этот народ произвел дикую расправу над его дядей; своими ушами он слышал крики разъяренной черни, требовавшей от него – своего владыки! – выдачи ближайших родственников… Было над чем мучительно задуматься!.. Не кара ли это небесная за его тяжкие грехи? Иван словно очнулся, в нем заговорила совесть… Он духовно преобразился: «и от того царь великий и великий князь прииде в умиление и нача многие благие дела строити».
Это преображение обыкновенно приписывается благотворному влиянию на царя двоих людей – священника Сильвестра и Алексея Федоровича Адашева. По словам Курбского, в их лице Бог подал руку помощи земле христианской.
Как же совершилась в душе Ивана эта перемена к лучшему, к чему она привела и какую роль в ней сыграли Сильвестр и Адашев? Официальная версия, разделяемая подавляющим большинством историков, целиком содержится в многолетней письменной перепалке между Грозным и Курбским (других свидетельств просто не имеется). Послушаем обе стороны.
Курбский относит появление Сильвестра при царе ко времени пребывания Ивана на Воробьевых горах. Царь в страхе смотрит на горящую Москву. «Тогда, – повествует Курбский, – пришел к нему один муж, чином пресвитер, именем Сильвестр, пришлец из Великого Новгорода, и начал строго обличать его Священным Писанием и заклинать страшным Божиим именем; к этому начал еще рассказывать о чудесах, о явлениях, как бы от Бога происшедших. Не знаю, правду ли он говорил о чудесах или выдумал, чтобы только напугать его и подействовать на его детский, неистовый нрав. Ведь и отцы наши иногда пугают детей мечтательными страхами, чтобы удержать их от зловредных игр с дурными товарищами. Так делают и врачи, обрезая железом гниющий член или дикое мясо до самого здорового тела. Так и он своим добрым обманом исцелил его душу от проказы и исправил развращенный ум».
Итак, худо ли, бедно ли, чудесами или обманом, но Иван наставлен на путь истинный. Овладев совестью царя, Сильвестр сближается с другим царским любимцем. «С Сильвестром, – продолжает Курбский, – тесно сошелся в деле добра и общей пользы один благородный юноша, именем Алексей Адашев, который в то время был очень любим царем. Если бы все подробно писать об этом человеке, то это показалось бы совсем невероятным посреди грубых людей: он, можно сказать, был подобен ангелу». Эпитет «благородный» здесь относится к моральным качествам Адашева: он был незнатного рода, и отец его, Федор Адашев, только в следующем году получил чин окольничего. Грозный отзывается о его происхождении с нескрываемым презрением: «Не знаю, каким образом вышед из батожников [то есть служителей, которые шли впереди царского поезда с батогами (палками) в руках и расчищали ими путь. – С. Ц.], устроился он при нашем дворе. Видя одну измену в наших вельможах, я взял его от гноища и поставил наряду с вельможами, ожидая от него прямой службы».
«Что же полезного эти два мужа делают для земли своей, впрямь опустошенной и постигнутой горькою бедою? – вопрошает Курбский. – Приклони ухо и слушай со вниманием. Вот что они делают: они утверждают царя, – и какого царя? – юного, воспитанного без отца, в злых страстях и в самовольстве, лютого выше меры и напившегося всякой крови – не только животных, но и человеческой. А важнее всего – они и прежних злых его доброхотов или отдаляют от него, или обуздывают. Названный нами священник учит его молитвам, посту и воздержанию и отгоняет от него всех свирепых людей, то есть ласкателей, человекоугодников, которые хуже смертоносной язвы в царстве; а быть себе помощником он уговаривает и архиерея великого города Москвы Макария, и других добрых людей из священства. Так они собирают около него разумных людей, бывших уже в маститой старости или хотя и в среднем возрасте, но добрых и храбрых, искусных и в военном деле, и в земском. Они до того скрепляют приязнь и дружбу этих людей с государем, что он без их совета ничего не устраивает и не мыслит. А тунеядцев, то есть блюдолизов, товарищей трапез, которые живут шутовством, тогда не только не награждали, но и прогоняли вместе со скоморохами и другими, им подобными».
Этих носителей всех мыслимых добродетелей Курбский именует «избранной радой». Вроде бы поначалу они ведут дело так, что царь не чувствует тягости их опеки.
Но у Грозного вскоре раскрываются глаза: оказывается, он пригрел на груди не одну, а целый клубок змей!
«Я, – пишет он, – принял попа Сильвестра ради духовного совета и спасения души своей, а он попрал священные обеты и хиротонию5, сперва как будто хорошо начал, следуя Божественному писанию; а я, видя в Божественном писании, что следует покоряться благим наставникам без рассуждения, ради духовного совета, повиновался ему в колебании и неведении. Потом Сильвестр сдружился с Адашевым, и начали держать совет тайно от нас, считая нас неразумными; и так, вместо духовных дел, начали рассуждать о мирских, и так мало-помалу всех вас, бояр, приводят в самовольство, снимая с нас власть и вас подстрекая противоречить нам и почти равняя вас честью с нами, а молодых детей боярских уподобляя честью с вами. И так мало-помалу утвердилась эта злоба, и вам стали давать города и села, и те вотчины, которые еще по распоряжению деда нашего у вас были отняты… все пошло по ветру, нарушили распоряжение деда нашего, и тем склонили на свою сторону многих. Потом Сильвестр ввел к нам в синклит единомышленника своего, князя Дмитрия Курлятева, обольщая нас лукавым обычаем, будто все это делается ради спасения души нашей, и так с этим своим единомышленником утвердили свой злой совет, не оставили ни одной волости, где бы не поместили своих угодников, и с тем своим единомышленником отняли у нас власть, данную нам от прародителей, назначать бояр и давать им честь председания по нашему жалованью: все это положили на свою и на вашу волю, чтоб все было, как вам угодно; и утвердились дружбою, все делали по-своему, а нас и не спрашивали, как будто нас вовсе не было; все устроение и утверждение творили по воле своей и своих советников. Мы же, если что доброе и советовали, им все это казалось непотребным. Во всякой мелочи, до обуванья и спанья, я не имел своей воли: все делал по их желанию, словно младенец».