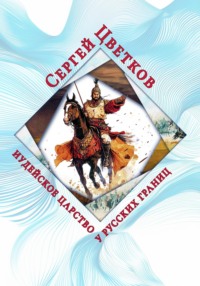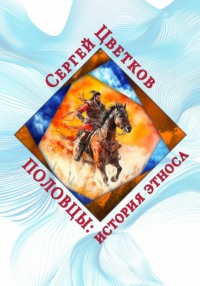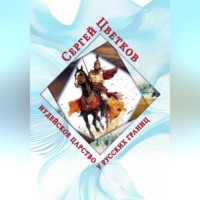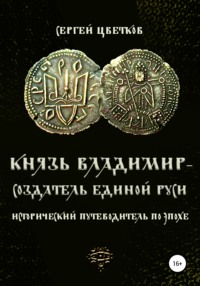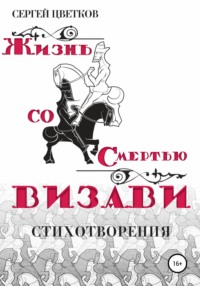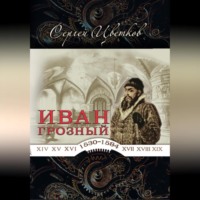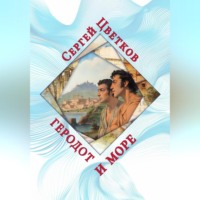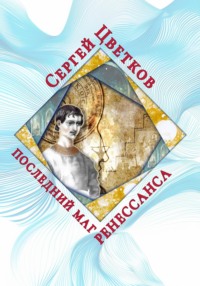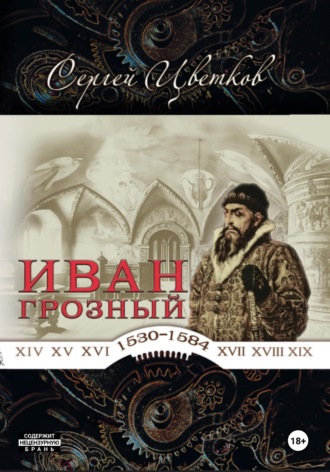
Полная версия
Иван Грозный
И все это творилось на фоне поголовной безграмотности, самого дремучего невежества. Даже многие священники не могли похвалиться «книжным разумением». Обрядность целиком заслонила собою веру; большинство русских людей не могло без подсказки прочитать «Отче наш». Европейские путешественники серьезно обсуждали вопрос, можно ли считать русских христианами. Впрочем, многое в обличениях иностранцев шло от некоторого неприятного недоумения, с каким они обнаруживали, что далекая Московия заселена не немцами и англичанами, а русскими. Европа вряд ли могла похвастать большей «святостью» – достаточно прочитать, что писал, например, о католическом монашестве Лютер…
***
Вполне естественно, что деятельность нового правительства началась с земской реформы и исправления гражданского и уголовного законодательства. На соборе 1550 года, воздав подобающую честь угодникам Божиим – ходатаям за русскую землю, молитвами которых он «начал править царство свое», – Иван благословился у митрополита и прочих святителей приступить к делу земского благоустроения, переменить и исправить старый, дедовский Судебник 1497 года, чтобы впредь суд был праведный и всякие дела решались законно.
На этом соборе был выработан целый ряд законодательных мер, изменивших всю систему местного управления – в сторону развития самоуправления. Прежде всего правительство попыталось оградить народ от произвола наместников и волостелей, уничтожить многолетнюю тяжбу земщины с кормленщиками.
Земщиной на Руси назывались земли – уезды и волости, – не приписанные к государеву двору. Управлялись они наместниками и волостелями при помощи системы кормлений, то есть извлечения доходов из управляемого округа в пользу администрации. Наместник правил в городе и уезде, волостель – в волости. Каждый правительственный акт наместника и волостеля был сопряжен с известным сбором. Отсюда понятно, что все административное делопроизводство имело значение не столько действий, направленных к поддержанию законопорядка, сколько значение источников дохода для самих управителей. Поэтому должность областного управителя и называлась кормлением: наместники и волостели кормились за счет управляемых в буквальном смысле этого слова. Кормление состояло из кормов и пошлин. Кормы вносились населением в определенные сроки, пошлинами оплачивались деловые бумаги, в которых нуждались отдельные лица. Например, в 1528 году служилому человеку Кобякову дана была в кормление волость Сольца Малая, занимавшаяся солеварением. В жалованной грамоте этому довольно мелкому волостелю перечислено до 14 доходных статей, кормов и пошлин, не считая въезжего корма (то есть подъемных)!
При этом кормление рассматривалось как награда за придворную и военную службу: управление городом или волостью не считалось службой, кормление было одним из средств содержания служилого человека. Видимо, система кормлений была отголоском старинного обычая полюдья – сбора дани князьями с подвластных земель; она настолько укоренилась в русской жизни, что ее можно наблюдать и в наши дни – например, в виде сбора, взимаемого священниками при исполнении треб, или в чиновничьем отношении к своей должности как к доходному месту, к кормушке, предоставленной в его распоряжение государством. В XVI веке эта система, с ее режущим слух названием и оскорбляющим нравственное чувство смыслом, держалась благодаря господству натурального хозяйства и недостатку ходячей монеты. Государственная служба оплачивалась скудно и нерегулярно. Истратившись на службе, наместник или волостель отправлялся на год или два кормиться в волость, поправлять «животы»; потом, с восстановленным достатком, он возвращался в столицу служить, исполнять бездоходные военные и другие поручения государя в ожидании новой кормовой очереди. Понятно, что для кормленщика его правительственные действия служили только поводом и средством к получению дохода. Правда, личный интерес областного правителя побуждал его преследовать лихие дела и карать за них; но у него не было и не могло быть никакого стремления предупреждать их. К каким злоупотреблениям приводило такое управление, читатель уже мог познакомиться на примере псковичей и новгородцев с их бесконечными жалобами на своих наместников.
К середине XVI века система кормлений превратилась в политическую бессмыслицу – она не способствовала централизации, поскольку верховная власть передавала кормленщику все управление областью без всякого отчета и контроля и в то же время не отвечала интересам местного самоуправления, ибо кормленщик представал перед населением в виде залетной птицы, явившейся исключительно с целью наживы. Сознавая это, правительство Ивана постаралось вначале стеснить произвол кормленщиков: была установлена твердая такса кормлений; затем запрещено было кормленщикам самим собирать корма с населения: это дело было поручено выборным от земских обществ; срок кормлений был сокращен до одного года. Наконец, в 1550 году собор начал земскую реформу, призванную ликвидировать систему кормлений, заменив наместников и волостелей выборными общественными властями, в ведение которых поручалось не только уголовное право, но и все местное земское управление вместе с гражданским судом.
До сих пор тяжбы населения с наместниками и волостелями основывались на старинном праве управляемых жаловаться верховной власти на своих управителей. По окончании кормления обыватели, потерпевшие от произвола кормленщиков, подавали свои жалобы обычным порядком в суд. Обвиняемый правитель в этом случае являлся обычным гражданским лицом и мог быть принужден вознаградить своих бывших подвластных за причиненные им обиды. У обиженных имелось еще одно средство привлечь к ответу кормленщика – древний обычай поля, то есть вооруженного поединка между истцом и ответчиком. Некий иноземец, литвин Михалон, знакомый с московскими порядками, негодуя на безнаказанный произвол панов в своем отечестве, с восторгом отзывался о таком московском способе держать областную администрацию в границах законного приличия. Но соблюдение приличий здесь было неотделимо от скандала и полной профанации общественной иерархии и дисциплины.
Подобный порядок борьбы со злоупотреблениями приводил к бесконечному сутяжничеству. Съезд кормленщика с должности служил сигналом ко вчинению запутанных исков о переборах и других обидах. Летописец говорит, что мужичье тех городов и волостей творило кормленщикам много коварств и даже убивало их людей: как съедет кормленщик с кормления, мужики ищут на нем многими исками, и при этом совершается много «кровопролития и осквернения душам» – от ложных крестоцелований и поединков. Не следует думать, будто московские приказные всегда мирволили провинциальным правителям. Многие наместники и волостели проигрывали такие тяжбы и лишались не только нажитых на кормлении «животов», но и старых своих наследственных имуществ, которые шли на уплату убытков истцов и возмещение судебных издержек.
Нерешенных дел, однако, было неизмеримо больше, и их количество увеличивалось с каждым годом. И вот, с целью прекратить это разорительное сутяжничество, царь на соборе 1550 года «заповедал» своим боярам, приказным людям и кормленщикам помириться «со всеми хрестьяны» своего царства, то есть предложил служилым людям покончить свои административные тяжбы с земскими людьми не обычным, исковым и боевым, а безгрешным мировым порядком. Царская заповедь была исполнена с такой точностью, что спустя год Иван уже мог доложить отцам церковного, так называемого Стоглавого собора, что бояре, приказные люди и кормленщики «со всеми землями помирились во всяких делах».
Эта мировая была подготовительной мерой к отмене системы кормлений. Вначале был проведен пробный опыт. В некоторых волостях и уездах крестьяне получили право судиться «меж себя» при посредстве старост и целовальников, «кого собе изберут всею волостью»; за это взамен местнических кормов с них взимался оброк в казну. Эту льготу правительство предоставило подопытным крестьянам сроком на один год, но она пришлась настолько по сердцу, что они выхлопотали ее и на другой год, согласившись при этом удвоить оброк. В 1552 году царь с одобрения боярской думы уже мог официально объявить о принятом решении устроить местное управление без кормленщиков по всей земле. Города, уезды и волости один за другим стали переходить к новому порядку управления. В 1555 году правительство издало закон: «во всех городах и волостях учинити старост излюбленных… которых себе крестьяне меж себя излюбят и выберут всею землею» и которые умели бы их рассудить в правду, «беспосульно и безволокитно», а также сумели бы собрать и доставить в государеву казну оброк, установленный взамен наместничьих поборов. На смену земской повинности кормления пришло право. Земская реформа шла рука об руку с реорганизацией службы служилых людей, для которых были установлены поместные и денежные оклады – «по отечеству и по дородству», то есть по родовитости и по служебной годности.
Эти действия царя и правительства Адашева могут по праву считаться образцом административного реформирования. Крутой политический перелом совершился быстро и безболезненно. При этом реформа не потребовала ни новых органов, ни нового окружного деления, земские выборные действовали в прежних округах наместников и волостелей. Излюбленные старосты или выборные судьи с целовальниками (присяжными) вели порученные им судные дела под личной ответственностью и мирской порукой: недобросовестное выполнение обязанностей наказывалось смертной казнью и конфискацией имущества, которое шло пострадавшим истцам. При такой постановке дела, при столь строгой ответственности земские выборные судьи вели дела не только беспосульно и безволокитно, но и безвозмездно. Их деятельность преследовала единственно общий интерес: государевы грамоты обещали, что, если земские судьи будут судить прямо и казенный оброк привозить сполна «и нам и земле управа их будет люба, государь с их земель никаких пошлин и податей брать не велит да и сверх того пожалует».
Правительство сумело не только избежать расходов, связанных с реорганизацией местного управления, но еще и получить с этого доход! Еще важнее было то, что местное самоуправление не противопоставлялось централизации, а удачно уживалось с ней и даже укрепляло ее. Земские органы ведали как местными делами, так и общегосударственными, которые прежде находились в ведении представителей центральной власти – наместников и волостелей. Отсюда можно заключить, что сущность земского самоуправления того времени состояла не столько в праве земских обществ вершить свои местные дела, сколько в обязанности исполнять общегосударственные приказные поручения, выбирать из своей среды ответственных исполнителей «государева дела». В этом смысле это был особый род государственной службы; свобода была неотделима от обязанностей, право выбирать означало обязанность отвечать за выборных. Земская реформа Грозного превосходно иллюстрирует пока еще новую для нас мысль, что демократия на самом деле не зависит от политического строя и может существовать в рамках монархии столь же естественно и органично, как и в рамках республики.
Собственно, в сфере судопроизводства Судебник повысил значение обыска при вынесении судебного решения; ограничил применение пытки – она допускалась только в том случае, если приговор по обыску признавал подсудимого худым человеком; определил высший срок правежа (заимствованного у татар обычая, по которому неоплатного должника в определенное время всенародно били палками по ногам, чтобы истребовать лежащий на нем долг) одним месяцем за сто рублей долга, после чего должник выдавался заимодавцу головой, правда с обязательным докладом об этом случае государю; принял меры к уменьшению числа холопов, запретив, например, отдаваться в холопство по ростовщическим обязательствам и вообще в случае нужды; установил денежные размеры «бесчестия» за оскорбления для различных сословий (при этом женщине платилось «бесчестие» вдвое против мужчины ее звания) и так далее. В прибавлениях к Судебнику был издан замечательный по тем временам указ о местничестве. Не посягая прямо на этот вредный обычай, Иван и правительство Адашева приняли меры к его ограничению и постепенному искоренению: было указано, чтобы в полках князья, воеводы и дети боярские не считались между собой местами, «и в том отечеству их унижения нет»; первый воевода Большого полка считался выше прочих; воеводы Передового и Сторожевого полков превосходили старшинством воевод полков Правой и Левой руки; царь один имел право судить о родах и достоинствах – «а воевод государь прибирает, рассуждая отечество», то есть подбирает воевод, принимая во внимание службу их отцов, но уж кто с кем послан, тот тому и повинуется. Однако надо заметить, что практических последствий этот указ не имел – по вине боярства. В течение своего правления Грозному пришлось лично разобрать около 90 местнических споров! Ни в одном случае виновный не был наказан смертной казнью – говорите после этого, что Грозный был вовсе чужд милосердию…
***
Одобрив Судебник, Иван назначил быть в Москве собору слуг Божиих, то есть церковному собору. В соборной книге об этом говорится так: «Державный самодержец, прекроткий царь Иван, осияваемый благодатию Святого Духа, подвигся теплым желанием не только об устроении земском, но и об исправлении многоразличных дел церковных. Он возвестил о том отцу своему, митрополиту Макарию, и повелел составить собор. Когда повеление царское услышали архиереи Русской земли, они объяты были невыразимою радостию и, как небопарные орлы, поспешили в Москву, и чудно было видеть царствующий град, красовавшийся пришествием отцов».
Собрались все до одного святители московской митрополии – митрополит Макарий и епископы: Новгородский – Феодосий, Ростовский – Никандр, Суздальский – Трифон, Смоленский – Гурий, Рязанский – Кассиан, Тверской – Акакий, Коломенский – Феодосий, Сарский – Савва и Пермский – Киприан, с «честными» архимандритами, игуменами, духовными старцами, пустынниками и множеством прочего духовенства. Собор 1551 года был самым представительным и важным из всех до сих пор бывших на Руси. Итогом его заседаний стал Стоглав – книга соборных актов, разделенная на сто глав, поэтому и сам собор называют Стоглавым. Стоглав написан в форме вопросов, предлагаемых от имени царя соборянам, и ответов на эти вопросы, которые являются собственно соборными приговорами.
Собор открылся 23 февраля в Кремлевском дворце. После молебна Иван торжественно воссел на престол. Когда водворилось глубокое молчание и взоры всех устремились на него, он внезапно встал и, подойдя к святителям, сказал:
– Молю вас, святейшие отцы мои, если я обрел благодать перед вами, утвердите на мне любовь свою, как на присном вашем сыне, и не обленитесь изречь слово единомышленно о православной нашей вере, и о благосостоянии святых Божиих церквей, и о нашем благочестивом царстве, и об устроении всего православного христианства. Я весьма желаю и с радостью соглашаюсь быть сослужебным вам поборником веры во славу святой Животворящей Троицы и в похвалу нашей благочестивой веры и церковных уставов. Посему повелеваю, чтобы отныне удалилось от вас всякое разногласие и утвердилось между вами согласие и единомыслие.
Затем царь предложил собору «своея руки писание» – те самые вопросы, касавшиеся важнейших сторон церковной жизни. Часто высказывалось возражение, что Иван был слишком молод, чтобы самостоятельно составить их, между тем как автор вопросов выказывает глубокое знание церковной жизни, и потому авторство их следует приписать митрополиту Макарию, либо Сильвестру, либо всей «избранной раде». Но во-первых, Иван был чрезвычайно начитанный человек, и начитанный именно в духовной литературе; во-вторых, в своих далеких богомольных поездках он имел возможность ознакомиться с самыми разными сторонами церковной и монастырской жизни; в-третьих, двадцать один год – возраст далеко не младенческий; в-четвертых, в Иване никогда – ни до, ни после – не замечалась склонность читать с листа чужие мысли. Конечно, митрополит Макарий и другие сведущие люди могли принять участие в составлении вопросов, и они, без сомнения, не оставили своими советами молодого царя; однако видеть в вопросах Стоглава всего лишь диктант, записанный рукою Ивана, нет оснований.
Вопросы собору были зачитаны вслух. Затем царь призвал не только духовенство, но и бояр, князей, воинов и всех православных христиан покаяться вместе с ним и обратиться на путь добродетели, указывая на примеры, древние и современные, страшных казней Божиих за грехи и дела неправедные. Вся его речь была выдержана в духе крайнего смирения. Со слезами вспомнил он о смерти отца и матери, о своевольстве и злоупотреблениях бояр, правивших царством в его малолетство, о своем сиротстве и отрочестве, проведенном в пренебрежении, безо всякого научения и в пороках, о казнях Божиих, постигших Россию за беззакония, – в особенности о великом московском пожаре…
– Тогда страх вошел в мою душу и трепет в кости, – говорил Иван, – и смирился дух мой, и я умилился и познал мои прегрешения, и прибег ко Святой Церкви, и испросил у вас, святители, благословения и прощения моих злых дел, а по вашему благословению преподал прощение и моим боярам в их грехах против меня и начал, по вашему благому совету, устроять и управлять врученное мне Богом царство.
По отношению к церковному управлению царь предложил исправить порядок, схожий с управлением наместников и волостелей в земщине. В епархиях был учрежден суд из выборных священников, на который допускались и земские старосты, и целовальники; избираемые из священников старосты следили за церковным благочинием и за исполнением духовенством своих обязанностей, они же собирали и доставляли к владыке все установленные сборы и пошлины.
Собор осудил и запретил языческие суеверия, принял меры к обузданию тщеславия и пустосвятства, воспретив мирянам ставить без нужды новые церкви, а бродягам-тунеядцам – келии в лесах и пустынях, – и меры к исправлению нравов, отменив, например, обычай совместного мытья в бане мужчин и женщин, монахов и монахинь. Был поставлен предел увеличению церковных вотчин: теперь без воли государя церковные власти не могли покупать земли, а служилые люди не имели права отдавать монастырям свои поместья в виде вкладов по душе; все вотчины, отданные боярами в монастыри по смерти Василия III, велено было отобрать обратно в казну. Собор установил особый налог для выкупа русских людей, попадавших в плен к татарам: эта повинность касалась всех без исключения, как общая христианская милостыня.
Не осталось без внимания книжное дело. Большинство книг на Руси были переводными – переводили с греческого и латинского языков, много раз переписывали древние тексты. И то и другое исполнялось плохо: переводы были неточными, при переписке в тексты вкрадывались ошибки и поддельные вставки. Более того, поскольку все книжное и письменное относили тогда к церковной области, так называемые отреченные книги (апокрифы и другие) чтились наравне с каноническими книгами, и Святым Отцам приписывалось то, чего они никогда не писали. Стоглав установил нечто вроде духовной цензуры, поручив ее выборным церковным старостам и десятским. Книжная справа взялась ими под надзор; переписанные книги должны были получить их одобрение, они же могли изъять из обращения и продажи книги неисправленные.
Собор приложил усилия к распространению просвещения и грамотности. К тому времени на Руси остались лишь смутные воспоминания, что некогда, при князьях Владимире Святом и Ярославе Мудром, на Руси существовали училища, которые впоследствии исчезли. Чтобы повысить грамотность духовенства, собор постановил вновь завести постоянно действующие училища и назначил избранных духовных лиц, которые обязаны были открыть их в своих домах; мирянам рекомендовалось отдавать своих детей в эти училища для обучения грамоте, письму и церковному пению.
В связи с вопросом о книжной справе Стоглав коснулся и иконописания, постановив писать живописцам иконы с древних образцов, как писали греки, Андрей Рублев и прочие прославленные живописцы, а от своего замышления ничего не изменять. Это постановление было призвано остановить проникновение в стиль русской иконописи приемов западноевропейской живописи. Впрочем, многие живописные новшества ввергали русских людей в соблазн исключительно по невежеству. Так, во Пскове в 1540 году, к Успеньеву дню, перехожие старцы привезли с собой образы святого Николая и святой Пятницы в киотах («на рези»), В Пскове таких икон прежде никогда не видали, и многие сочли их почитание «болванным поклонением», то есть идолопоклонством; «была в людях молва большая и смятение». Простые люди обратились к священникам, те к наместникам; в результате старцев схватили, а иконы отослали к Макарию, который был тогда Новгородским архиепископом. Только тогда выяснилось заблуждение невежд. Макарий сам молился перед этими иконами, пел им соборно молебен и, воздав им всеподобающую честь, сам проводил до судна, отплывавшего во Псков, и заповедал псковичам эти иконы у старцев выменять и встречать их соборно.
По некоторым соборным актам, в частности по вопросам церковного и монастырского землевладения, видно, что Иван принимал сторону нестяжателей (это лишний раз доказывает, что митрополит Макарий не был автором вопросов, предложенных Стоглавому собору). В них содержится много обличений, чувствуется искреннее стремление к обновлению и преобразованию церковной жизни. Но также ощущается разница между тем, кто задает вопросы, и теми, кто на них отвечает. В соборных ответах прослеживается недовольство спрошенных, их упорное стояние в привычной старине. В целом Стоглавый собор, в отличие от Земского собора 1550 года, носил не реформаторский, а охранительный характер. С этим согласны и историки Церкви. «Стоглав был задуман, как «реформационный» собор, и осуществился, как реакционный», – пишет протоиерей Г. Флоровский в своей книге «Пути русского богословия» (Париж, 1937).
***
Со Стоглавым собором тесно связано начало книгопечатного дела в России. Ибо, несмотря на то что Печатный двор появился в Москве намного позже, сама идея его заведения относится к постановлениям собора о книжной справе. Исправление рукописных книг продвигалось медленно, поэтому для скорейшей замены старых книг новыми решено было воспользоваться уже давно известным в Европе средством – типографским станком.
Вначале думали воспользоваться опытом иноземных мастеров, но пограничные с Московским государством страны – Ливония и Речь Посполитая – не пропускали в Москву знающих ремесленников, в том числе и типографов. Правда, в 1552 году датский король Кристиан III прислал в Москву Ганса Миссингейма, который привез с собой печатные книги – Библию и еще два сочинения с изложением учения лютеранства. Собственно, целью посольства Миссингейма было не распространение в России книгопечатания, а обращение Ивана в лютеранство: лишь в том случае, если царь примет новое вероучение, Миссингейм соглашался перевести указанные книги на русский язык и напечатать в нескольких тысячах экземпляров. Нам ничего неизвестно, как датский посол был принят в Москве, – скорее всего, с изумлением.
Инициатива в создании русского Печатного двора принадлежала самому Грозному, который поделился этой мыслью с митрополитом Макарием. Владыке эта идея пришлась очень по душе. С его благословения царь велел строить дом для типографии на Никольской улице и приискивать мастеров. Постройка Печатного двора длилась десять лет. В апреле 1563 года было начато, а 1 марта следующего года кончено печатание первой книги – Апостола. Руководил работой дьякон Николо-Гостунского собора Иван Федоров, в совершенстве изучивший (быть может, в Италии) искусство книгопечатания: он умел не только сам набирать и печатать, но и отливал очень искусно литеры. Помогал ему Петр Тимофеев.
В 1565 году был напечатан Часослов. На этом дело приостановилось. Федорова обвинили в ереси, и он был вынужден бежать в Литву. Обвинителями его были, видимо, книгописцы, увидевшие в торжестве печатного станка подрыв своего ремесла. По преданию, Печатный двор был сожжен этими людьми. Но истребить книгопечатание не удалось. Печатное дело было восстановлено и велось теперь уже под руководством Никифора Тарасиева и Андроника Невежи. В 1568 году вышла Псалтирь, и книгопечатание в России окончательно утвердилось.
Что касается изгнанников, Ивана Федорова и Петра Тимофеева, то они вначале трудились в Литве у гетмана Ходкевича, ревностного покровителя православия, который подарил Федорову близ Заблудова «весь немалу» (поместье), где русский первопечатник и завел новую типографию. Потом он подвизался во Львове, а Петр Тимофеев в Вильне. Наконец Федоров переехал в Острог к православному князю Константину Константиновичу Острожскому и напечатал в 1581 году Библию на славянском языке – знаменитую Острожскую Библию.
Умер Иван Федоров в декабре 1582 года, в большой нужде. Надгробный камень с его могилы во Свято-Онуфриевом базилианском монастыре в 1883 году, по приказанию настоятеля отца Сорницкого, был разбит и употреблен на строительство каменной ограды. Слепок с плиты был привезен в Россию в 1873 году графом А.С. Уваровым и подарен в возобновленное древнее книгохранилище при московском Печатном дворе. Надпись на ней гласит: «Иоанн Феодорович друкар москвитин, который своим тщанием друкование зендбалое обновил, прставися в Львове року 1583 декамбрв. 5». На середине камня читаются полустертые слова: «Упокоения воскресения из мертвых чаю»; здесь же помещен его герб, а под ним надпись: «Друкар книг пред тем не виданных».