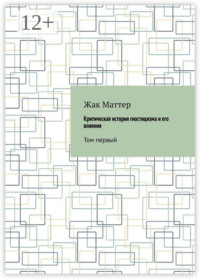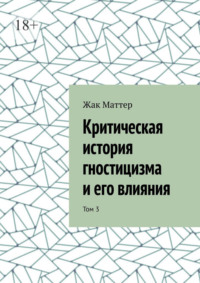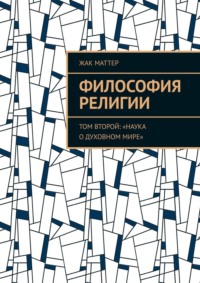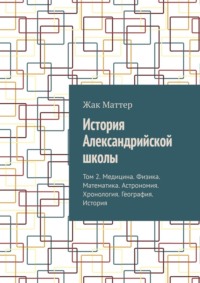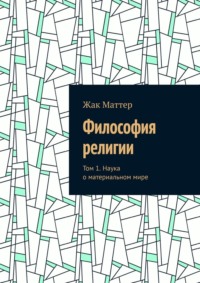Критическая история гностицизма и его влияния. Том 2
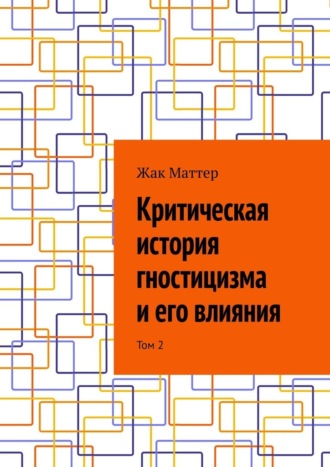
Полная версия
Критическая история гностицизма и его влияния. Том 2
Язык: Русский
Год издания: 2025
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу