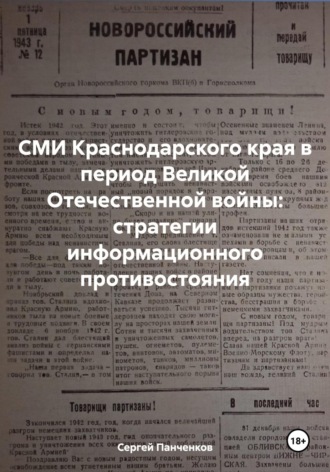
Полная версия
СМИ Краснодарского края в период Великой Отечественной войны: стратегии информационного противостояния
По сравнению с «Красным знаменем» улучшилась верстка, в «Большевике» информация более точно сгруппирована по темам, которые сосредоточились по полосам. Исключением оставалась последняя страница, на которой новость о детской елке в Краснодаре и стихотворение Михаила Исаковского «Новогодняя застольная» соседствуют с призывом американского президента Франклина Рузвельта оказать поддержку противникам оси. Очевидно, четвертая полоса заполнялась по остаточному принципу.
С годами в краевой газете стало больше фотографий, карт, схем, рисунков. Как и в «Красном знамени», «Большевик» использовал верстку в семь колонок, затем сократил их количество до шести.
Почти в каждом выпуске были призывы участвовать в социалистических соревнованиях, а также публикации их итогов. Компартия требовала дать больше газетного пространства освещению этой стороны жизни советского общества. Постановление ЦК ВКП(б) «О порядке организации всесоюзных социалистических соревнований по отраслям промышленности» от 16 июня 1941 года предложило редакциям газет «Правда», «Комсомольская правда», «Труд» и особенно редакциям отраслевых газет широко освещать достижения предприятий, цехов и отдельных рабочих во Всесоюзном социалистическом соревновании, а также вскрывать недостатки в проведении соревнования и критиковать отстающие предприятия77.
Ярко выражена образовательная функция газеты «Большевик». Издание давало советы сельскому хозяйству в материалах «Уничтожить мышевидных грызунов», «Сеять только чистокровными семенами», «Местные удобрения», «Как мы готовимся к севу» и т. д. Например, в материале «Перегнать Америку и Данию!» обсуждалась племенная работа для повышения удоя коров. Издание знакомило с практическими рекомендациями, которые способствовали повышению количество получаемого молока за счет роста качества питания благодаря кормам из свеклы, посева трав для пастбищ и т. д. Сельское хозяйство находилось под пристальным вниманием газеты. В случае провалов журналистские строчки без жалости наказывали виновных. Зимой 1941 года в Славянском районе прошел рабселькоровский рейд проверки подготовки колхозов и совхозов к весне. За урожаем в регионе следила вся страна. Секретарь Краснодарского крайкома ВКП(б) П. Бычков опубликовал в «Правде» отчет «Кубань в предвесенние дни», в котором рассказал о подготовке тракторов и инвентаря, о площади сева и прочем78. К. Игнатущенко в материале «На полях Кубанских колхозов» похвалил трактористов Советского района и раскритиковал за отставание от графика сева Марьинский район79. В «Известиях» П. Бычков опубликовал материал «Кубань сеет»80.
Рекомендации промышленным предприятиям также занимали видное место в городской и региональной периодике. «Большевик» регулярно публиковал материалы подобного рода: «За высокую культуру производства», «Партийное руководство нефтяной промышленностью» и т. д. Сотрудник многотиражной газеты «Цемент» А. Луценко для «Большевика» подготовил отчет «Партийно-техническая конференция на заводе "Пролетарий"», на ней обсуждались вопросы улучшения качества продукции, экономии топлива и электроэнергии, сырьевой базы новороссийского цементного завода.
Встречались статьи по образованию и науке: «О наглядности преподавания истории», «Педагогическая пропаганда среди родителей» и т. д. Получила огласку на страницах издания первая научно-педагогическая конференция, которая проходила в январе 1941 года в Краснодарском крае.
Печатный орган Краснодарского крайкома имел тематические рубрики. Рассмотрим далее их содержание.
«В последний час» рассказывала об актуальных событиях.
«Партийная жизнь» раскрывала внутренний мир коммунистического актива.
В рубрике «Вместо обзора печати» «Большевик» знакомил с кратким содержанием статей региональной прессы: успенской районки «Социалистический путь», «Ейской правды», кропоткинской газеты «За коммуну», штейнгардтовской «Ударник полей» и других. Кроме того, в рубрике можно встретить замечания в отношении местной прессы. Так, «Адыгейская правда» была подвергнута критике за неверное истолкование на своих страницах принципов марксизма-ленинизма и искажение истории партии. «Большевик» поддерживал тесные связи со всей системой краевых СМИ и публиковал анонсы радиопередач. В передовице кубанские коммунисты обратили внимание на партийное руководство стенными газетами. Публикация сообщила, что в Краснодарском крае насчитывалось свыше десяти тысяч стенных газет, издаваемых в колхозах, полеводческих и тракторных бригадах81. Они объединяли сотни тысяч рабкоров и селькоров. «Об успехах низовой печати Кубани и Черноморья свидетельствует ее участие на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Если в 1940 году на сельхозвыставке было представлено 65 газет края, из них 38 стенных, – то в текущем году отобрано и выдвинуто 90 газет, в том числе 58 стенных. Количество работников печати края, представленных в этом году для участия во Всесоюзной сельхозвыставке, составляет свыше 400 человек». В номере «Большевика» выступали редакторы стенных газет «Сталинец» и «Стахановец полей» Славянского района, «За хлопок» Темрюкского района, «Стахановец» Майкопского района, «За сталинский урожай» Усть-Лабинского района, «За урожай» Тимашевского района, «За рекордный урожай» Щербиновского района.
В «Письмах в редакцию» помещались обращения граждан к газете.
Рубрика «По следам наших выступлений» фиксировала реакцию организаций и политических органов на критику со стороны издания.
В разделе «В несколько строк» собрана краткая информация местного значения.
Рубрика «В помощь изучающим марксизм-ленинизм» демонстрировала теоретические материалы о коммунизме.
«Англо-германская война» посвящена боевым действиям в Европе. Информация о Второй мировой войне показана с разных сторон. В «Большевике» с подачи ТАСС публиковались перепечатки «Берлинер берзенцейтунг», «Рейтер», «Юнайтед пресс», «Ассошиэйтед пресс», «Нью-Йорк Таймс», «Джорнале д’Италиа», «Пройа» и т. д. Не редкостью было увидеть на страницах «Большевика» перепечатку выступлений Адольфа Гитлера82. Это не значит, что советская пресса проявляла особое отношение к фюреру, ведь так же часто помещались цитаты Уинстона Черчилля83, Бенито Муссолини и других представителей враждующих сторон.
На первой полосе новогоднего выпуска «Большевика» авиаконструктор Николай Николаевич Поликарпов проанализировал опыт воздушных сражений в Западной Европе и пришел к выводу, что «современные самолеты должны обладать большой скоростью, высотностью, крупнокалиберным вооружением, хорошей броневой защитой». Предположения известного инженера вскоре сбылись: «1941 год открывает нам захватывающие перспективы. Мы осуществим многие наши мечты и дерзания, технические замыслы…»
Наличие такой публикации на первой полосе показывало отнюдь не благодушие в информационном поле страны в данный период. Статья о развитии именно военной авиации демонстрировала, что страна открыто наращивает боевой потенциал. Другая статья корреспондента ТАСС на первой полосе «Большевика»84 рассказала о работе прожекторных установок ПВО в Лондоне85. Эта же статья есть на шестой полосе «Правды»86 и в «Известиях»87. В каждом номере много информации новостного характера о вооруженных конфликтах. Периодически можно увидеть на страницах «Большевика» аналитические материалы: «Нефть и война» А. Сталова, «Стратегические базы в бассейне Красного моря» Н. Андреева и т. д. Статья члена-корреспондента Академии наук СССР Л. Иванова «Военно-морские силы воюющих держав» сообщала о составе флотов участников Второй мировой войны88. За четыре месяца до вторжения Германии газета «Большевик» поместил перепечатку «Красной звезды» о марксистко-ленинской учебе начальствующего состава Красной армии в 1941 году89. 10 апреля 1941 года в «Большевике» опубликован приказ № 1 местной противовоздушной обороне г. Краснодара. Он предупредил население муниципалитета об учениях. Страна жила в ожидании войны.
Читателя в каждом выпуске «Большевика» знакомили с репортажами и заметками о военно-спортивной подготовке: «Военная учеба партактива», «Подготовка к комсомольскому кроссу», «Военно-физкультурная работа в школе», «На штурм», «Военное обучение осоавиахимовцев по-новому» и т. д.
Обзор международных дел среди тематического разнообразия «Большевика» занимал видное место. Советская пресса пыталась убедить в отрешенности нашей страны от проблем империалистов, вовлеченных в международный конфликт. Газетные строки рисовали картины мучений людей из других государств на фоне процветания в СССР. Например, в тематическом номере 8 марта 1941 года в статье пацифистского характера «Против империалистической войны» говорится об огромных тяготах и лишениях, с которыми столкнулись трудящиеся женщины капиталистических стран, втянутых в конфликт мирового масштаба90.
До начала реальной войны уже шла полномасштабная информационная война. ТАСС регулярно публиковал разоблачения.
10 января 1941 года в «Большевике» было размещено коммюнике «О заключении хозяйственного соглашения между СССР и Германией», согласно которому «переговоры проходили в духе взаимного понимания и доверия, в согласии с существующими между СССР и Германией дружественными отношениями»91. Указанное соглашение было заключено сроком от 11 февраля 1941 до 1 августа 1942.
В следующем номере на первой полосе вышла перепечатка передовой «Известий» от 11 января 1941 года под названием «Развитие дружественных советско-германских отношений». «Большевик» вслед за «Известиям» повторял: «В Англии и Соединенных штатах имеются такие руководящие государственные деятели, которые полагают, что Соединенные Штаты в полном соответствии с международным правом и позицией нейтралитета могут продавать Англии все, вплоть до военных кораблей, тогда как Советский Союз не может продавать Германии даже зерновые продукты, не нарушая политики мира. Эти странные умозаключения являют собой любопытный образчик жонглирования международным правом… Попытки враждебной Советскому Союзу прессы доказать, что любой договор, заключенный между СССР и Германией, направлен против третьих держав, не выдерживает ни малейшей критики, потому что Советский Союз на протяжении 1940 года заключил и намерен в 1941 году заключить хозяйственные договоры и соглашения с другими как воюющими, так и невоюющими государствами. Пора понять, что Советский Союз, как невоюющая держава, ведет свою самостоятельную политику и будет продолжать ее вести, что бы ни думали по этому вопросу государственные деятели восточного и западного полушарий».
В дальнейшем «Большевик» поместил описание реакции зарубежных СМИ на это событие: «Вся германская печать уделяет исключительно большое внимание заключению между СССР и Германией договора… Газеты публикуют текст соглашений с крупными заголовками на самом видном месте, посвящают передовые статьи, в которых отмечается огромное значение этих документов. В данном случае, пишет газета "Фелькишер беобахтер" ("Volkischer Beobachter" – главная газета Третьего рейха92), речь идет о широком урегулировании в рамках советско-германских договорных отношений и тех вопросов, которые возникли за последний год как следствие развития политических событий… Касаясь существа опубликованных документов, газета "Пополо ди Рома" ("Popolo di Roma") отмечает, что новые соглашения являются доказательством прочности добрососедских отношений между СССР и Германией». Средства массовой информации Великобритании и США, а также нейтральной Швеции широко осветили событие, но воздержались от комментариев»93.
Такая риторика в советских СМИ будет иметь серьезные негативные последствия. На протяжении 1930-х годов отечественные СМИ обличали преступный характер германского нацизма на всех уровнях, включая журналистику Краснодарского края. С началом Второй мировой войны смена тона в отношении гитлеровского режима была не принята частью советской аудитории. Внешнее миролюбие по отношению к Германии в советской системе СМИ создавало иллюзию принятия нацистов и фашистов, хотя никакого союза у большевиков с ними быть не могло по причине расхождения в политических, экономических и национальных вопросах. Активное освещение мероприятий военно-оборонительного характера в прессе должно было поддерживать готовность страны к войне. Но эффективность указанной агитации снижалась из-за того, что образ врага неожиданно стал нейтрально-дружелюбным. Была сделана попытка вновь направить вектор информационного противостояния на капиталистов вообще, однако и здесь советские читатели и радиослушатели не смогли получить ясных ориентиров по признаку «свой-чужой». Вторая империалистическая война, как ее называли в отечественной печати тех лет, шла между капиталистами, т. е. сторонами, равноценно заслуживающими осуждения. Однако одна из наиболее влиятельных участниц этого противостояния – Германия – вдруг перестала быть враждебной в глазах пропагандистского аппарата СССР94,95,96. Целевая аудитория накануне одного из самых трагичных этапов в истории страны получала противоречащие друг другу установки. Попытка утвердить в сознании новую политическую картину быстроменяющегося мира в 1939–1941 годах не была многими понята тогда и сейчас со всеми вытекающими от такой неопределенности негативными последствиями.
Историки-ревизионисты цитируют две речи, которые якобы произнес Иосиф Виссарионович Сталин 19 августа 1939 года и 5 мая 1941 года. Эту группа исследователей рассматривает приписываемые советскому лидеру слова как свидетельство его экспансионистских намерений и желания расширить влияние на Германию и вообще Европу. Оба выступления вызывают дискуссию в историческом сообществе, потому что отсутствуют сохранившиеся до наших дней тексты обоих выступлений97. Такая же трудность толкования возникает при анализе коммюнике ТАСС от 13 июня 1941 года. На следующий день оно было опубликовано на первой полосе кубанской газеты «Большевик»98. В заявлении отрицалась непосредственная угроза немецкого вторжения в Советский Союз и отвергались слухи о том, что немцы требуют уступить территории99. Войска были дезориентированы сообщением, которое называло слухи о возможном конфликте с Германией ложными и не отвечающими дружественному характеру советско-германских отношений. По воспоминаниям современников, военным разъясняли причастность «враждебных элементов» к распространению подобных домыслов, как тогда казалось100,101.
В Германии также резко сократилась антисоветская пропаганда в период временного сотрудничества с СССР102. Средства массовой информации нацистов не привлекались для непосредственной подготовки к нападению на Советский Союз. Это делалось для введения в заблуждение будущего противника, чтобы скрыть намерения вторгнуться на территорию Советского Союза.
Историк В. А. Невежин в работе «Синдром наступательной войны» приводит пример, когда информационная политика на местах непредумышленно вселяла уважение к немецким успехам. В. А. Невежин в своем исследовании приводит случай, когда в Ростове-на-Дону предположительно местным управлением ТАСС была выставлена масштабная карта. При помощи флажков с нацистской символикой каждый день фиксировалось перемещение германских войск в весенней кампании 1941 года. Возле этого места люди собирались и обсуждали ситуацию, часто комментируя превосходство немецкой военной машины103.
Проблема взаимоотношений СССР и Германии неоднозначна, актуальна и вызывает жаркие научные и политические споры104. Точки зрения на нее противоположны: от религиозного обоснования ее как «кровавой битвы с дьявольским воинством»105 до утверждения «германский меч реванша ковался в сталинской кузнице»106. В рамках нашего исследования эта тема затрагивается в контексте перестройки средств массовой информации, которые столкнулись в конце 1930-х и начале 1940-х годов с трудностями при адаптации к быстро меняющимся политическим условиям накануне великого испытания журналистики, народа и страны.
1.2 Перестройка кубанской журналистики после нападения нацистской Германии в 1941 году
Воскресный выпуск краевой газеты «Большевик», вышедший 22 июня 1941 года, не отличался от предыдущих. Работа комсомольских организаций, переводные испытания в училищах и высокий урожай табака – вот некоторые темы, которые занимали полосы107.
О новых задачах советских СМИ в связи с началом войны рассказала репортер ТАСС Ирина Павловна Кириллова. Она вспоминала, что 23 июня должны выйти первые, военного времени, номера газет, поэтому накануне ТАСС должен был дать периодической печати страны информацию о первом дне войны108.
О войне краснодарцы впервые узнали по радио. В протоколе № 1 заседания бюро Краснодарского краевого комитета ВКП(б) «О выступлении по радио товарища В. М. Молотова» от 22 июня 1941 года обязало И. И. Юдина на следующий день выпустить очередной номер газеты «Большевик» и опубликовать в нем выступление Молотова и отклики трудящихся края на эту речь109. Более полно поставленные партией и правительством задачи были отражены в решениях бюро Краснодарского крайкома ВКП(б) «Об агитационной работе» от 27 июня 1941 года110.
В понедельник 23 июня 1941 года весь выпуск «Большевика» был посвящен началу войны. В нем первую полосу на четверть занимал фотопортрет Иосифа Сталина. Его изображение, часто скопированное с портретов, написанных художниками, будет публиковаться на первой полосе по случаю важнейших событий в стране111. Справа от него помещены указы о мобилизации, военном положении и утверждении трибунала. Слева внизу напечатано обращение заместителя председателя Совнаркома СССР и народного комиссара иностранных дел Вячеслава Михайловича Молотова. В шапке второй полосы помещена его цитата, ставшая крылатой: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» В шапках последующих номеров будут напечатаны разные цитаты из его выступления, а в газетных сообщениях словами интервьюируемых и авторов будут переданы яркие фразы В. М. Молотова: «еще теснее сплоить ряды вокруг партии», «разбойничье нападение» и т. п. В обращении нарком иностранных дел впервые назвал войну Отечественной. Это определение было сразу подхвачено людьми. Например, в материале «Объявляем себя мобилизованными» упоминается название Отечественной войны, написанное с заглавной буквы112.
Гитлер сравнивался с Наполеоном c первого военного номера газет. В будущем СМИ будут часто делать отсылки к истории113. В частности, в перепечатке «Правды», опубликованной в «Большевике» 25 июня 1941 года, проводилась аналогия между гитлеровцами и немецкими рыцарями, разбитыми на Чудском озере114. Забегая вперед, скажем, что выступление Иосифа Сталина 7 ноября 1941 года актуализировало историческую преемственность115, и после этого ретроспектива стала еще чаще встречаться в газетах.
В первых выпусках военного времени «Большевик» писал о митингах в организациях Краснодарского края. Об этом в заметке «В колхозах Кубани» также сообщил печатный орган Советов депутатов трудящихся «Известия» на первой полосе номера от 24 июня 1941 года под стихотворением Василия Ивановича Лебедева-Кумача «Священная война»116. В будущем пресса постоянно будет рассказывать о всесоюзных митингах тружениц, молодежи, ученых и других социальных групп. Много внимания посвящено женщинам, которые выражали готовность занять место мужчин на производстве или вступить в ряды военнослужащих. В июле 1941 года в краевую газету «Большевик» писала многодетная мать М. П. Куликова с благодарностью за заботу партии о женщинах, когда трое ее сыновей отправились на фронт. Она выразила готовность работать не покладая рук117. Одновременно с актуальными политическими задачами советская журналистика выполняла и более долговременную задачу формирования новых ценностных установок, нового мировоззрения у женской аудитории118.
Немногочисленные фотографии, показывающие собрания на заводе измерительных приборов и краснодарского паровозного депо, сделал А. Галаганов. Фотографию митинга строителей Шапсугского водохранилища выполнил Н. Максимюк. Нередко под снимками в газете можно было увидеть подпись В. Соловьева. Он с 1927 года работал на Кубани, азовском и черноморском побережье. Трудился корреспондентом ТАСС. В газете «Большевик» работал с первых дней ее основания. В марте 1942 года В. А. Соловьев был призван в Красную армию и прошел боевой путь в рядах 4-го Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Журналист не дожил до победы: 5 апреля 1944 года он умер от болезни. К числу фотографов, чьи работы часто появлялись в региональной газете, также относятся М. Лотменцев, Ф. Свинарев, С. Коротков.
Во втором военном номере «Большевика», который вышел 24 июня 1941 года, помещена первая сводка Главного Командования Красной армии за первый день конфликта. Она в сдержанном тоне знакомит читателей с официальной советской позицией и сообщает об отражении ударов врага119.
В номере, вышедшем 24 июня 1941 года, появился рисунок А. Каурова «Раздавить гадину!», на котором красноармеец бьет прикладом винтовки змея со свастикой на голове. Иллюстрации этого художника помогли разнообразить визуальную составляющую краевой газеты. Рисунки А. Каурова часто изображали казаков, сцены стремительных атак. В дальнейшем на страницах издания появились плакаты Кукрыниксов, Виктора Корецкого, Ираклия Тоидзе и других знаменитых мастеров. В конце июля в Краснодаре была создана агитбригада «Штык», куда вошли художники А. П. Ладонкин, И. В. Коваленко, Е. И. Чичкан, Г. Ф. Суглобов. Они выпускали «окна сатиры» с антифашистскими карикатурами и плакатами120.
В тексте под названием «Не дрогнет рука, не подведет глаз» звучала уверенность, «что эта война приблизит мировую пролетарскую революцию». Повсеместно интервьюируемые выражали безусловность победы. В шапке третьей полосы находился призыв: «Дадим Красной Армии все, что нужно для победы над врагом!» Опубликованы патриотические стихи, клятвы рабочих перевыполнять производственную норму, уверения в несокрушимости советского народа.
В материале «Каждый советский гражданин готов драться за десятерых» колхозник Гражданского района т. Шашин заявил, что кубанские казаки по первому зову партии и правительства пойдут и будут громить врага на его же территории. Здесь мы видим отражение военной доктрины, согласно которой предстоящая война СССР должна была иметь наступательный характер. Впервые в публикации «Весь советский народ встанет на защиту матери-родины» упоминается собирательный образ державы, ставший культовым в годы Великой Отечественной войны. Примечательно, что зарубежная хроника на четвертой полосе, касающаяся Германии, лишилась нейтральной подачи: «Германские оккупанты обрекли на голод народ Бельгии», «Репрессии германских властей против норвежских общественных деятелей». Заметки о делах за границей не только по привычке позволяли заполнить последнюю полосу, но и обосновывали международную угрозу со стороны немецкого нацизма, показывали, что Советский Союз не один страдает от действий гитлеровцев, не один борется с ними.
Приведем несколько примеров. Со ссылкой на американский журнал «Уик» Телеграфное агентство Советского Союза, а следом и «Большевик», рассказало о масштабах заключения инакомыслящих в материале «Фашистская Германия – концентрационный лагерь»121. В публикации «Затаенные мысли трудящихся Германии» автор под псевдонимом Г. Л. убеждал читателей в солидарности немецких рабочих с советскими гражданами, делая такие выводы на основании записей в книге отзывов советского павильона на Международной ярмарке 1941 года, прошедшей в Лейпциге. Убедить в том, что немцы и их союзники не разделяют фашистские идеи, призваны интервью с пленными и перебежчиками. Широкое распространение в советской печати получило воззвание Альфреда Лискофа (Лискова)122, а также памфлеты в духе Коминтерна: «Германский народ устал воевать», «Финляндский народ против войны», «Немецких солдат гонят воевать за ненавистный фашизм» и т. д. Собранные сведения предназначались не только для советской аудитории. Газета немецких антифашистов «Freies Deutschland» брала за основу трофейные документы и также письма очевидцев из числа попавших в плен солдат и офицеров вермахта. На их основе она сообщила о разрушениях в Краснодарском крае123. Д. Л. Стровский утверждает, что издания, которые предназначались для вражеских военнослужащих, выходили в печать до апреля 1942 года, после чего их заменили листовки и прокламации124. Но с этим едва ли можно согласиться, ведь Национальный комитет «Свободная Германия» появился в июле 1943 года и начал издавать свою одноименную газету не раньше указанной даты125.
В итоге мы видим, что уже в первых военных номерах «Большевик» использовал фразы и приемы, которые впоследствии стали распространенными пропагандистскими штампами. Вместе с тем газета сообщала о предположениях (в частности, о предпосылке мировой пролетарской революции), которые отмели обстоятельства войны как несостоявшиеся126.
Заслуживает внимания речь Уинстона Черчилля 22 июня 1941 года, сокращенная ТАСС и перепечатанная 24 июня «Большевиком». По сравнению с оригиналом, советская версия выступления премьер-министра Великобритании умолчала о том, что могло выставить Советский Союз в невыгодном свете. В частности, были опущены слова о предупреждениях Сталина со стороны Черчилля, о бедности русских крестьян и рабочих, о молитве русских матерей и пр. Очевидны причины, по которым выступление Уинстона Черчилля подверглось сокращению со стороны ТАСС. Однако слова британского премьер-министра содержали не только антисоветизм, но и обещание помочь СССР, потому что «опасность, грозящая России – это угроза нам и угроза Соединенным Штатам, и точно так же дело каждого русского, который сражается за свой дом и очаг – это дело всех свободных людей и народов во всех частях земного шара»127. В те критические дни любая моральная поддержка была необходима советскому народу, которому предстояло выстоять против агрессии нацистской Германии и ее сателлитов. Вслед за этим 25 июня 1941 года в «Большевике» в рубрике «В последний час» давалось объявление Франклина Рузвельта о предоставлении помощи Советской России и сообщалось о снятии Министерством финансов секвестра с советских фондов в США. Потеплевшие отношения с западными демократиями были широко отражены журналистами. «Большевик» отдал видное место сообщению о «Соглашении между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне против Германии». Печатный орган крайкома ВКП(б) опубликовал отклик жителей Краснодара и Сочи, которые одобрили это событие128.

