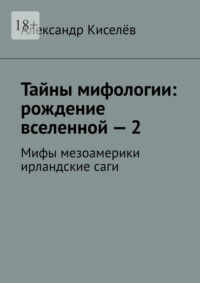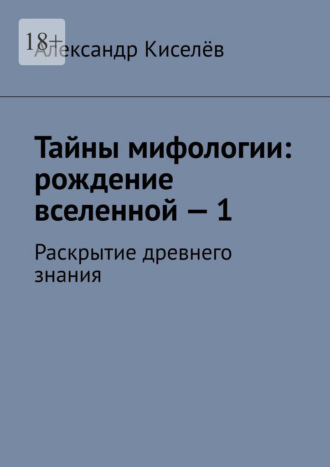
Полная версия
Тайны мифологии: рождение вселенной – 1. Раскрытие древнего знания
Есть версия, где на нём скакал сын Одина Хермод. Он скакал, по всем девяти мирам германцев. Вновь символ взрыва, охватывающего всё пространство будущей вселенной. Но скакал он в Хель, страну мёртвых, дабы вернуть своего погибшего брата Бальдра. Здесь мы видим ясное указание на этап сжатия, схлопывания. Для спасения Бальдра, ему нужны всеобщие скорбные рыдания, но добиться всеобщих у него не получается. Поэтому, Бальдра он не спасает, но сам возвращается в мир богов. Это символ уже второго, следующего далее, творения, творения видимой, материальной вселенной. Рыдания же, вновь деталь уточняющая тему утекания, сжатия.
Вернёмся к скачке Одина. Там есть интересный момент;
…На пиру богов в Асгарде, напившийся великан Грунгнир бросает вызов Тору, сильнейшему из богов-асов, после чего, уезжает к себе. Вскоре, Тор отправляется к нему для решительного сражения. Поскольку, завершение скачки Грунгнира и Одина в Асгарде символизирует сжатие, схлопывание взрыва – это поездка Тора, должна была бы означать второе творение, разворачивание уже зримой, материальной вселенной. Но символы этой части истории таковы, что явно отсылают нас к событиям первых рас человечества на Земле, то есть к тому, что имело место через миллиарды лет после вышеописанного. В этом имеет место явная параллель с «Теогонией» Гесиода, где воцарение Зевса, то есть создание материальной вселенной, сразу же переходит к образам создания человека на Земле и связанным с этим историям. Похоже, эта параллель не случайна, и мифы скандинавов-германцев создавались под влиянием мифологии греков, хотя, кто знает, может быть и наоборот.
Воистину, рыба мечты: Тор на рыбалке
На рыбалку Тор отправился с великаном Хюмиром, в надежде поймать мирового змея, змея Мидгарда, Ёрмунганда. Как бы сложно и интересно не описывалась происхождение этого змея, по сути, это всё та же пустота изначального пространства, которую пытается ухватить, покрыть, заполнить большой взрыв. Достаточно сказать, что кусая себя за хвост, он кольцом, опоясывает мир людей, Мидгард.
Итак, сразу начнём трактовать символы. Для наживки, Тор взял большую бычью голову. Бык, как мы уже говорили, является ясным символом большого взрыва. Его сила, мощь, страстный порыв, всё вполне читается.
Тор с великаном гребут, уплывая всё дальше в океан, в поисках мирового змея, символизирующего пустоту. Вновь – взрыв, расширяющийся всё дальше и дальше. Забрасывание удочки, с бычьей головой, в качестве наживки. Вновь – символ того же. Змей клюёт, и Тор подтягивает его, всё ближе и ближе. Да, речь здесь идёт уже о сжатии, схлопывании взрыва, но здесь же, как может показаться, присутствует кое-что ещё. А именно, попытка взрыва, сжимаясь, схлопываясь, утянуть за собой саму пустоту, за которой, он и пытался гнаться в своём расширении. Но, насколько я понимаю, и мы в этом убедимся в нашем путешествии, первый большой взрыв вовсе не пытается что-то за собой утянуть схлопываясь, наоборот, он всеми силами старается оторваться, убежать от леденящей, ядовитой, разъедающей его пустоты. Полагаю, что, как часто бывает в мифах, мы имеем здесь дело с наслоением, частичным смешением образов. Насколько я понимаю, символ Тора, пытающегося подтянуть в лодку, пойманного им на удочку, Ёрмунганда, принадлежит этапу предыдущему, то есть – этапу расширения взрыва. Первый большой взрыв, а точнее – «первое Я», в своём расширении, как ты уже понимаешь, пытается распахнуться во всю бесконечность окружающего его пространства, чтобы не осталось ничего что было бы не им. Таким образом, «первое Я» пытается вернуть состояние цельности «мирового яйца», потерянное им при пробуждении. Что мы и видим в символе Тора, пытающегося заполучить себе змея Мидгарда – Ёрмунганда, пытающегося объединиться с ним. Но, по причинам которые мы рассмотрим дальше, бесконечное расширение первого большого взрыва было невозможным, в какой-то момент оно прекратилось и перешло в сжатие, «первое Я» отказалось от попытки объединения с окружающей его пустотой, что и символизируют нам действия Хюмира, который, якобы испугавшись, перерезает верёвку-леску Тора ножом. Он это сделал, когда Тор, для надёжности, пробил дно лодки и встал ногами на дно океана, замахнувшись своим молотом на приблизившегося змея.
Уже знакомый образ, правда? Вишну, в облике черепахи, ныряющий в воды космического молочного океана под мутовку богов, чтобы стать ей опорой. Вновь – символ некой, совершенно новой, плотности, возникшей в результате сжатия, плотности, до сих пор не свойственной, тончайшей эфемерной среде праматерии, составлявшей первый взрыв. Опора, обретённая богом Тором в виде дна океана, ясно символизирует сжатие взрыва в плотную точку, то есть – его возвращение к своему истоку, к, опять-таки, своего рода опоре.
Замах Тора молотом, это опять-таки взрыв. Но, удара не случилось. Как уже было сказано – пустоты не догнать, её не коснуться. Удар молота-Мьёльнира, мог бы также говорить о мощи и жёсткой плотности сжатия взрыва, но – удара не было. Увы.
Порой, и в позоре есть смысл: Тор и поход в Утгард
Как часто бывает в мифах, особенно в германских, частицы важных символов здесь придётся отыскивать среди множества совершенно необязательных подробностей.
Великий бог Тор, вместе со своим братом, хитроумным Локи, отправляется в легендарную страну великанов Утгард. Уже по дороге начинаются приключения, в результате которых к ним присоединяются ещё два спутника, мальчишки Тиальфи и Ресква.
Четыре героя, вообще число четыре, это символ расширяющегося взрыва; мы проясним эту тему, когда подойдём к теме цифр и, связанных с ними, знаковых систем. То, что в начале путешествия героев было два, то, что главными героями этого путешествия является эта пара – Тор и Локи, так же не случайно. Рядом с «первым Я» в начале творения, в мифах часто присутствует кто-то ещё, некий «второй», например – Шива рядом с Брахмой. Насколько я понимаю, «второй», это некая частица, «искра» того вечного, божественного мира, что необходимо «первому Я» для воспламенения взрыва. Полагаю, что именно эту творящую пару и символизируют здесь Тор и Локи. Хотя, думаю ты уже понял и будешь убеждаться снова и снова, что точная принадлежность того или иного бога или богини к какой-то определенной сфере, к какой-то специальности, существует лишь в нашем мелочном, рассудочном воображении. В реальности всё гораздо более подвижно, текуче и неопределённо. Строго говоря, боги, их имена, их «специальности», зоны ответственности, – не важны, важен лишь тот, настоящий смысл, что таится за всем этим. И этот настоящий смысл, как ты видишь, за символическими образами мифологии, вполне отчётливо различим.
Вскоре, наши герои встречают великана, путешествуют вместе с ним, и во время одной из ночёвок, Тор, в течении ночи, три раза бьёт его молотом по голове, но не может причинить ни малейшего вреда.
Ты уже заметил, что мифы, очень часто наполнены совершенно неправдоподобными, нереалистичными деталями, которые очевидно, имеют символический смысл. Здесь, мы имеем дело с символом «мирового яйца», «золотого яйца», сначала – разделяющегося на «первое Я» и «не Я», а потом – разворачивающегося в первое творение, в первый взрыв. То есть, здесь мы видим период, длящийся от этапа единицы, то есть – «мирового яйца», до этапа «тройки», который, что совершенно естественно, имел место до начала этапа «четвёрки», о котором символически говорили нам два мальчика, присоединившиеся по дороге к двум нашим героям, до того, как взрыв стал расширяться, что символизировала нам цифра «четыре», хотя она и возникла в тексте ранее. Но подобная путаница, часто встречается в мифах.
У Тора не получилось, ни убить великана, ни даже, просто причинить ему вред, но, после третьего удара великан, проснувшись, наконец-то встаёт.
Вновь скажу то, что мы проясним немного позже. Когда мировое яйцо раскрывается, разворачивается, ему, для того, чтобы выйти на этап четвёрки, то есть распахнуться взрывом, заполняющим всю окружающую пустоту, нужно сначала, выйти на этап тройки, что вполне естественно, о чём и говорят нам три удара Тора, после которых, великан, пробудившись, поднимается. Под этапом «тройки» я подразумеваю этап, когда «первое Я» создает триединство, необходимое для воспламенения взрыва. Под триединством, я, что совершенно очевидно, подразумеваю объединение трёх начал, сбирание их воедино. Все эти начала уже упоминались нами. Это – «тьма за глазами», как ресурс, сырьё, материал будущего взрыва. Это – «искра» «божественного мира», необходимая для воспламенения этого сырья. И это – само «первое Я», как автор происходящего, чьё волеизъявление является единственной движущей силой всего происходящего, и как узловая точка, объединяющая в себе перечисленные начала.
Наши герои приходят в Утгард. После приветствий хозяина по имени Утгардлоки и прочих разговоров, их впускают в замок, где дело доходит до состязаний. Ведь наши герои должны доказать великанам, что достойны того, чтобы здесь находиться. И вот, три соревнования, между нашими героями и теми, кого против них выставляют хитрые великаны. Три эпизода, дающие нам нужные символы.
Против Локи, объявившего себя самым быстрым и жадным «поедателем» среди богов, вышел некий Логи. Перед ними поставили огромное корыто с мясом, и они по сигналу, приступили к поеданию содержимого, начав с двух противоположных сторон. Встретились они в середине корыта, но Локи съел только мясо, а Логи, уничтожил всё вместе с костями, поэтому был объявлен победителем.
Следующим было состязание в беге на скорость. Безвестный мальчик Тиальфи, вдруг оказался самым быстрым бегуном в мире людей; обычная для мифов неожиданность. Против него вышел некий юноша Гуги. Три раза бежали они, и с каждым разом, Тиальфи уступал всё больше.
Тору, объявившему себя способным пить как никто из богов, был поднесён длинный узкий рог с водой. За три героических попытки, в результате которых Тор, чуть не лишился чувств, он так и не смог уменьшить количество воды в роге ни на волос.
Рассерженному Тору, желающему доказать великанам своё божественное превосходство, предлагают поднять кошку. Но после невероятных усилий, у него получается оторвать от пола лишь одну её лапу.
Тогда, совершенно уже разгневанный Тор, предлагает хозяевам доказать свою силу в борьбе. Против него, со смехом, выставляют старую кормилицу Утгардлоки – Элли. Бросился на неё яростный Тор, но она так схватила его, что у того перехватило дыхание. Чем больше сжимал её Тор, тем крепче становилась старуха. Внезапно, она сделала ему подножку, и Тор упал на одно колено. Хозяин замка был очень удивлён этим, но со смехом сказал гостям, что очевидно, они не достойный оставаться здесь. Утгардлоки щедро накормил Тора с друзьями, после чего, пошёл их провожать. В прощальном разговоре с Тором, выяснилось, что хозяин очень впечатлён их могуществом. Это он был великаном Скримниром, встреченным ими по дороге. И вместо своей головы, он якобы подсунул под могучие удары молота Тора огромную скалу, на которой, остались от этих ударов страшные отметины. Логи, с которым соревновался в поедании мяса Локи, это – сам огонь, с которым никто не сравнится в пожирании чего бы то ни было. Гуги, с которым Тиальфи соревновался в беге, это сама мысль, опередить которую не может ничто во вселенной. Рог, из которого пил Тор, соединён с самим мировым океаном, мировой бездной, и от геройских попыток Тора, бездна обмелела, как море при сильном отливе. Кошка, которую пытался поднять Тор, была самим змеем Мидгарда, Ёрмунгандом. И то, что Тор смог оторвать от пола одну её лапу, было невероятно. Старуха- кормилица, с которой он боролся, это – сама старость. Любого человека она кладёт на обе лопатки, и только, могучий Тор упал, всего лишь на одно колено. Казалось бы, всё ясно. Но ясно ли?
Заявляю тебе совершенно определённо, – если мораль мифа открыто присутствует в самом мифе, значит это некий вторичный, поверхностный смысл, даваемый для непосвященных. Давай-ка, вглядимся в эти образы повнимательнее.
Состязание в поедании, напоминает нам Урана, помещавшего своих детей, одного за другим, в Гею, и Крона, пожиравшего своих детей. То есть, в итоге, оно говорит нам о том, что как бы первый взрыв не распахнулся, не расширился на всю вселенную, как бы ни пытался её охватить, всё равно всё сведётся к схлопыванию, к сжатию в точку. Взрыву не превзойти сжатия.
Состязание в беге, обращает нас к истории состязания Ганеши и Картикеи. Вновь то же. Как бы мощно взрыв не рванулся, как бы далеко не распахнулся в пустоту изначального пространства, всё равно, в итоге, всё свелось к возвращению к истоку, к точке.
История с кубком воды – это не образ сжатия, схлопывания, ведь взрыв, каким бы огромным он ни был, был конечен, его можно было вобрать весь, что и произошло на деле. В данном же случае, Тор, не зная того, пытавшийся выпить всю бесконечную пустоту, которую символизирует здесь мировой океан, это опять-таки, тот самый взрыв, который пытается заполнить её всю, как Уран Гею, покрыть её, охватить, заполучить в себя.
Попытка поднять кошку, в образе которой скрывался мировой змей Ёрмунганд, напоминает нам египетского Шу, который рванулся вперёд и вширь, чтобы якобы поддержать Нут, испугавшуюся высоты, после того, как она была разъединена с её близнецом-братом Гебом. То есть, Тор, пытающийся поднять кошку, это очередной образ, всё того же первого большого взрыва, обречённого, в своей попытке расширяться бесконечно, на неудачу.
Борьба Тора со старостью, а значит, и со смертью, вновь говорит нам о том же. Как бы мощно не рванулся взрыв вперёд, как бы далеко не распахнулся, всё равно, в итоге и очень скоро, его ожидает сжатие, схлопывание, исчезновение. И, само возвращение наших героев из Утгарда домой, в Асгард, опять-таки, символизирует сжатие, схлопывание, возвращения к истоку. Вообще, само их путешествие, вместе со всеми включёнными в него испытаниями, выглядит, как попытка совершить невозможное. То есть, образ здесь всё тот же, это – неудавшаяся попытка первого большого взрыва распахнуться в вечность и бесконечность. Ты видишь, что образы этого мифа, неоднократно и по-разному, рассказывают нам о первом круге творения, о расширении и схлопывании первого большого взрыва.
И немного о Локи, который здесь был совсем не случайно.
Локи: И у негодяев есть семья
Присутствие Локи в предыдущем мифе не случайно. Локи символизирует «искру», то прикосновение божественного непроявленного мира, что необходимо «первому Я» для проявления вовне. Это образ, аналогичный образу египетского Сета, о котором мы ещё с тобой не раз поговорим. Имеет смысл, прояснить для себя, и историю с семейным положением Локи, хотя она и подаётся мифом, как что-то другое, отдельное. Но, как выясняется, эта ещё одна версия всё того же, первого круга творения. Хотя Локи и не является «первым Я», он является той искрой предвечного, непроявленного мира, без которой, «первое Я» не могло бы творить, или даже, просто пробудиться. А значит, в каком-то смысле, они неотделимы друг от друга. И для Локи, как для символа «первого Я» здесь, раз уж само оно, в данном случае, никак отдельно нам не представлено, супруга Локи великанша Ангрбода порождает великого змея Мидгарда – Ёрмунганда, то есть – ту самую пустоту «не Я», страшного волка Фенрира, то есть – первый большой взрыв, и страшную Хель, – всё тот же «Тартар» Гесиода, ту «тьму позади», «тьму за глазами».
С Фенриром, всё достаточно ясно. Сначала он рос «не по дням, а по часам», до гигантских размеров, просился отпустить его на бескрайние просторы миров ясеня Иггдрасиль, но, в итоге, на него накинули волшебную, то ли сеть, то ли цепь, и приковали к скале на маленьком безлюдном острове. Да ещё и, вставили между челюстями волшебный меч, заговорённый рунами.
Ты видишь, что эпизод с Фенриром – это совершенно ясный символ, сначала – первого большого взрыва, с его стремительностью, с его претензиями на бескрайность, а потом – сжатия, схлопывания в точку, о чём говорят образы, – «безлюдного острова», «скалы», «прикованности к скале».
Ты видишь, что здесь в общем-то неважно, сохраняет ли меч пасть волка открытой, распирая её, или тот держит его в закрытой, стиснутой пасти. Раскрытая пасть говорила бы о вбирании взрыва, приведшем к сжатию в точку, закрытая же, – о самом этом сжатии, о стремлении «первого Я» свернуться, спрятаться от леденящей, ужасающей пустоты.
Сам Локи в этой истории никак не фигурирует, известно лишь, что он отец Фенрира. Аналогом Локи в этой истории, судя по всему, предстаёт бог Тюр. Он, то бог неба и грома, то воинской доблести, совершенно положительный, в отличии от Локи, и здесь, он – близкий друг Фенрира, пользующийся его доверием. Чтобы боги смогли пленить, разросшегося гигантского Фенрира, ему пришлось положить тому в пасть свою руку, и, в итоге, потерять её. Бог Тюр здесь, тоже символизирует взрыв, и его отказ от руки, потеря её, говорит о прекращении расширения взрыва, о его сжатии, о возвращении к источнику. То есть, – это аналог образа мужского естества Урана, отнятого его сыном Кроном в «Теогонии» Гесиода. Мы ещё не раз с тобой встретим символы травмы, частичного повреждения тела героя, говорящие о том же самом, о переходе взрыва от расширения к сжатию.
Возвращаясь к начатому, повторюсь, – здесь, первый круг творения описывается без участия, собственно «первого Я». Его роль здесь играет Локи, то есть – всё тот же Шива-Сет, без которого, «первое Я» не смогло бы, ни появиться, ни проявиться, ни творить. Остаётся упомянуть, что великанша Ангрбода, это, всё тот же, изначальный, предвечный Хаос «Теогонии» Гесиода. Мы ещё не говорили об этом космическом начале. Это, та гипотетическая пустота, что ещё не была никем названа таковой, что гипотетически существовала до того, как «мировое яйцо» развернулось пробуждением «первого Я».
Поскольку великанша Ангрбода породила от Локи такие важные, фундаментальные космические начала, естественно предположить, что сама она символизирует Хаос Гесиода. Хаос, что когда-то означал совсем не беспорядок, а разверстую бездну пустоты. Хаос, что по Гесиоду, породил Эрос, – «первое Я», с его понятными побуждениями, Гею, – внешнюю, окружающую пустоту, на самом деле, в чём ты скоро убедишься, порождённую прикосновением внимания Эроса, и Тартар, – ту тьму, что «позади», «за спиной», «за глазами», то есть – почти все, основные, необходимые для творения вселенной, начала, в их греческом варианте. Как ты видишь, в данном списке не хватает только «искры», но поскольку, речь у нас шла о Ангрбоде, жене Локи, с «искрой» – всё в порядке, ведь в первую очередь, Локи символизируют именно её.
Ну а почему, Тюр, при очевидном созвучии имён и очевидном сходстве качеств, тем не менее – не Тор, это вопрос отдельный.
Рагнарёк и мост Биврёст
Говоря о мифологии древних германцев, нельзя не упомянуть такой известнейший образ этой мифологии, как «Рагнарёк», «конец света». В мифах о нём, упоминаются не только катаклизмы, но и то, как Земля вернётся в норму, как вновь расплодятся и будут жить на ней люди. Исходя из этого момента я делаю вывод о том, что «Рагнарёк» – это не то, что случится с Землёй когда-то в будущем, а то, что уже произошло однажды. В следующую нашу с тобой встречу, в следующей книге, мы поговорим об этих образах, поговорим о том, как на освободившуюся от вод потопа землю, выйдут из волшебного сада Лив и Ливтрасир, спасшаяся пара людей, и станут родоначальниками нового человечества, точнее, как они когда-то давно стали такими родоначальниками. Сейчас же, меня интересует эпизод из «Младшей Эдды» в котором, на мой взгляд, явственно прослеживаются образы космогонии, хотя принадлежит он мифам о «Рагнарёке». Я не очень в этом уверен, но всё же… Давай рассмотрим.
…Тогда спросил Ганглери: «Какой путь ведет с земли на небо?». Отвечал со смехом Высокий: «Неразумен твой вопрос! Разве тебе неизвестно, что боги построили мост от земли до неба, и зовется мост Биврёст? Ты его, верно, видел Может статься, что ты зовешь его радугой. Он трех цветов и очень прочен и сделан – нельзя искуснее и хитрее. Но как ни прочен этот мост, и он подломится, когда поедут по нему на своих конях сыны Муспелля, и переплывут их кони великие реки и помчатся дальше». Тогда молвил Ганглери: «Думается мне, не по совести сделали боги тот мост, если может он подломиться; ведь они могут сделать все, что ни пожелают». Отвечал Высокий: «Нельзя хулить богов за эту работу. Добрый мост Биврёст, но ничто не устоит в этом мире, когда пойдут войною сыны Муспелля»…
Во-первых, что такое «мост от земли до неба»? Это первый большой взрыв. «Первое Я», взорвавшись, пытается пересечь окружающую его пустоту «не Я», ту самую речку Смородинку, Пучай-реку и достигнуть того самого «неба», вечного «божественного мира», связь с которым оно потеряло проснувшись, выйдя из состояния «мирового яйца». Сам взрыв и является тем самым «калиновым», «раскалённым» мостом, и одновременно, движением по нему, попыткой его пересечь.
Здесь этот мост называется «радугой», что сразу же напоминает нам о семи цветах, то есть, семи составляющих первого большого взрыва. Правда, здесь же говорится о его «трёхцветности», но и это указывает нам на «триединство», необходимое для воспламенения взрыва, о чём мы уже говорили и поговорим ещё.
«Сыны Муспелля», едущие по этому мосту, это вновь образ всё того же взрыва. То, что «мост» «подламывается», как и «перекладинка» в русской народной песне, указывает нам на то, что расширение взрыва прекращается и переходит к его схлопыванию. Мы с тобой ещё поговорим о глубочайшем космогоническом смысле русских песен. То, что «старшая сестра» в песне «утопилась», то есть, упала в воду, а «сыны Муспелля», упав с «подломившегося моста» «переплывут великие реки», вновь указывает нам на то, что первый большой взрыв был, не столько попыткой «первого Я» объединиться с пустотой «не Я», сколько попыткой вернуться в тот вечный «божественный мир», в котором оно находилось своим сознанием, а ведь ничего кроме сознания оно из себя и не представляло, прибывая во сне в состоянии цельности, в состоянии «мирового яйца». Как ты видишь, здесь есть кажущееся противоречие. С чем же пыталось объединиться «первое Я» взорвавшись, с окружающей его пустотой или с незримым, вечным «божественным миром»? Хотя, как ты уже заметил, многие мифологические образы говорят нам именно о влечении «первого Я» к окружающей его пустоте, думаю, что правильнее будет сказать, что оно пыталось дотянуться до «божественного мира», до того состояние счастья, полноты, цельности, в котором оно находилось ещё недавно, до своего пробуждения. Попытка расширяться в пустоте бесконечно, была продиктована именно тем, что «первое Я» пыталось пересечь её, как ту самую «речку смородинку», «пучай-реку», пересечь, надеясь найти где-то за ней, тот самый, потерянный «божественный мир». Так вот, именно потому, что дотянуться до «божественного мира» у «первого Я» не получилось, образы, «подломившейся перекладинки», «подломившегося моста» и «падения в воду», вполне уместны.
Как часто бывает в мифах, в подобных образах присутствует несколько смыслов. Во-первых, образ «подломившегося моста» говорит о неспособности «первого Я», взорвавшись, дотянуться тем самым, до состояния цельности счастья «божественного мира», о том, что его попытка вырваться из пространства в котором оно проснулось, обернулась наивной погоней за пустотой, то есть – делом изначально безнадежным, и окончилась неудачей. Во-вторых, этот же образ, в связи с вышесказанным, говорит о прекращении расширения взрыва и его переходе к сжатию, схлопыванию в точку. Ведь взрыв не мог расширяться бесконечно, тем более, что «первое Я» не смогло таким образом найти желаемого. Парадоксально, хотя это уже стало привычным, но образ «падения в воду», хотя и следующий за образом «разрушения моста», всё же, в первую очередь символизирует всё тот же, первый большой взрыв, его погружение, разлитие, распространение в пространстве. Я не смог здесь удержаться от тавтологии.
Как же так? Ведь «падение в воду» происходит после «разрушения моста», а значит, – этот образ должен говорить о схлопывании взрыва, о его отступлении к истоку. Тем не менее, на мой взгляд, и это достаточно ясно ощущаешь закрыв глаза, падение в воду, – это прямое указание на расширение, распространение первого большого взрыва. Думаю, что мы с тобой сможем прояснить это небольшое противоречие. Если представить, что попыткой «первого Я» дотянуться до «божественного мира» был не взрыв, если представить, что оно пыталось дотянуться до «божественного мира» внутренне, собравшись в то самое триединство, предшествовавшее взрыву, и что, та самая «искра» «божественного мира» и была кратким мигом прикосновения к этому миру, а значит – той самой попыткой «перейти по мосту», «по перекладинке», но, оказавшись неудачной, – привела лишь к воспламенению взрыва, распахнувшегося в пустоте этого пространства, но не давшего ни малейшей возможности заглянуть куда-то за его край, всё, как кажется, встаёт на свои места. Об этом же говорит, уже рассмотренный нами, образ из старой русской загадки. Я имею в виду – «дуб», что «повалился». Он тоже был попыткой «первого Я» дотянуться до «божественного мира», «пройти по мосту», и подобно падению с «подломившегося моста», он «повалился», то есть – в результате своей неудачи, «Я» проявилось в пространстве будущего материального мира первым большим взрывом, о чём и говорит нам пословица словами – «мир народился».