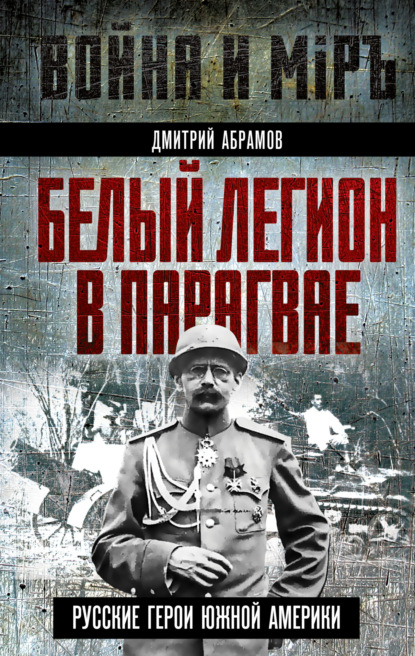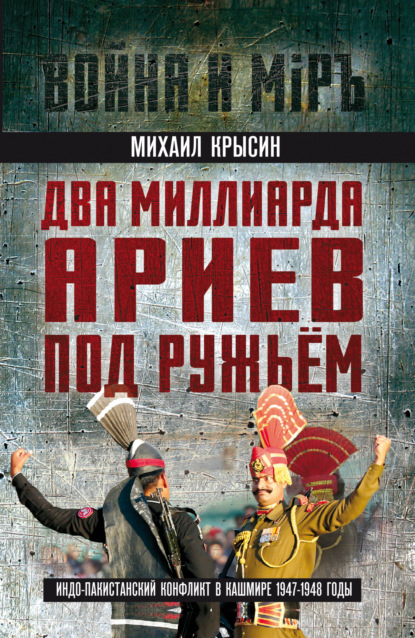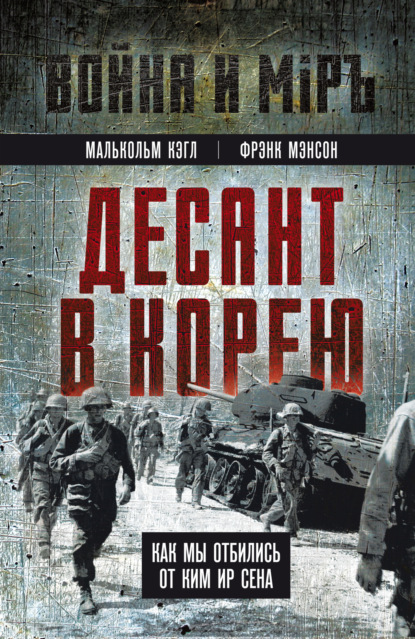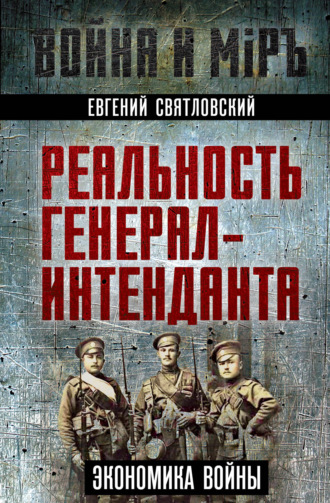
Полная версия
Экономика войны. Реальность генерал-интенданта
Какое относительное значение имеет численность, как элемент военной мощи, при тех или иных условиях войны – выяснить это дело стратегии. Экономика войны со своей стороны должна выяснить: 1) в каком смысле численность связана. с прочими элементами военной мощи такими, как техника, снабжение, организация, подвижность и театр войны и 2) каково ее отношение к экономике.
Несомненно, что живая сила армии при прочих равных условиях стоит в прямом отношении к ее численности. В то же время с самого начала – на ряду с вопросом о квантификации (численность: сколько?) перед нами встает вопрос о квалификации армии (качество солдат, их подготовка и свойства).
«Прежде в сражениях, – говорит один французский автор, – отдельный солдат далеко не равнялся всякому другому солдату: различия могли касаться силы, выносливости, решимости. Малое число имело иногда превосходство над большим, благодаря быстрым переходам к большей силе».
Словом, всякий солдат имел свойственную ему цену, которую можно было определить, складывать и которая была причиной того, что закон численности, обнаруживающийся в наши дни, не представлял ничего абсолютного.
«Но по мере того, как армии становились более могущественными и деятельными, различия в физической силе сражающихся все менее и менее влияли на результат. Уменьшилось отношение силы человека, физически наиболее сильного, к силе человека наиболее слабого. В близком будущем при соединении в большие массы солдаты будут равны друг другу».
«Отсюда значение закона численности в будущих сражениях на суше. Этот закон становится все более точном и естественным». (Montechant, Les lois de nombre et de vitesse dans lart de la guerre, Paris, 1894)
Заметим, что этот закон численности осуществляется при условии увеличения размеров сражающихся масс и в зависимости от прогресса военной техники, напр., в силу введения нового оружия, разрушительная сила которого практически бесконечно выше силы прежнего вооружения.
В этом случае каждый шаг завоеваний военной техники (переход от камней и палиц к луку, от лука к огнестрельному оружию и далее ко все более совершенным и превосходящим прежние видам оружия) знаменует выступление на сцену закона численности в его чистом виде.
В морской войне, где единицами служат корабли, введение нового оружия, разрушительная сила которого превосходит силу прежнего вооружения, влечет за собою аналогичное последствие.
Конечно, те же соотношения, несомненно, имеют место и в воздушной войне.
Таким образом, закон численности действует при постоянном уровне техники скрыто и уступает в это время стремлению квалифицировать (усовершенствовать) технику, но при каждом новом завоевании техники выступает во всей своей силе в качестве первоочередного требованиях квантификации (т. е. увеличения численности).
Лозунгом подготовки к войне после каждого технического улучшения становится прежде всего возможно большее число! Стремление добиться дальнейшего усовершенствования на некоторое время уступает в своей настоятельности этому лозунгу.
Рассмотрим теперь, каковы отношения численности:
а) к остальным элементам военной мощи и б) к экономическим факторам и ресурсам, лежащим в сфере экономики.
а. Мы уже видели, как требование численности вызывается прежде всего условиями, лежащими в области техники, иначе, усовершенствованием средств вооружения. Можно поэтому сказать, что всякий шаг вперед военной техники повышает требования численности и преломляется в стремление обеих сторон к численному превосходству над неприятелем.
Вместе с тем, рост численности усложняет дело организации, снабжения и подвижности армии, и тем увеличивает значение надлежащего разрешения этих задач. В свою очередь возникающие в этой сфере трудности кладут некоторые пределы безграничному росту численности вооруженных сил. Выяснить эти пределы, однако, есть уже дело и искусство стратегии.
Клаузевиц говорит: «Численное превосходство есть основа победы как в тактике, так и в стратегии. Необходимо на решительном пункте ввести в дело число войск возможно большее – это первый принцип стратегии. Окажется ли за сим это число достаточным или нет, это вопрос другой, но мы со своей стороны в мере средств сделали все, что только от нас зависело. Чудная мысль, что существует для армии известный предел, нормальная ее величина, так что силы сверх нормы причиняют затруднения! Полагаем, что в сказанном мы возвратили перевесу сил подобающее ему первенствующее значение. Из этого однако не следует, чтобы считать перевес сил необходимым условием победы. Не такова мысль наша. Мы указываем только значение (цену) числа в сражении. Если мы соберем силы возможно большие, то вполне удовлетворим принципу. Абсолютный размер военных сил определяется государством».
б. Численность обращает к экономике свои требования, как прямо, так и косвенно (вследствие усложнения задач снабжения, подвижности и организации).
Прямые требования численности: 1) наличность значительных людских масс и 2) создание многочисленных тактических единиц сухопутных, воздушных и морских сил, – в области экономики обнаруживаются в форме:
1) требования привлечения массы населения к отбыванию воинской повинности и его обучения, и
2) требований к финансам страны на затраты и дело сформирования по возможности большего числа боевых единиц, или на перевооружение в зависимости от прогресса военной техники. Первое требование обращено к народному хозяйству, а в условиях коалиционных войн и к мировому хозяйству.
Второе требование направлено к промышленным ресурсам народного хозяйства и к государственному хозяйству (или финансам страны).
«Характерной чертой будущей войны, – говорит, напротив, Розье (стр. 7) – видимо будет численное уменьшение войск, в то время как, вследствие технических усовершенствований, их военная мощь будет постоянно возрастать… Применение машин в войне требует преобразования технического характера и в военном образовании; нечего и мечтать дать его армии в несколько миллионов человек».
Отсюда и возможность типичного для французской мысли идеала, когда «обороняя пограничную полосу, промышленно-организованную и занятую наличным, даже ограниченным числом хорошо обученных войск, можно безусловно остановить вторжение завоевателей, как бы могучи они не были». (Гаскуэн, стр. 3).
Такая тенденция к возможному уменьшению численности вызывается, помимо приведенных мотивов (затруднения, связанные с обучением и ограниченность национальных ресурсов населения), еще и моментом социальным (немногочисленность господствующих классов по сравнению с широкими массами трудящихся).
Особенное значение, в качестве ограничивающего момента, имеет, вообще говоря, стоимость. «Числа солдат недостаточно, – писал в 1911 году и Lauth. На ряду с числом необходимы деньги, много денег. В этом отношении нам (Франции) жаловаться не приходится: можно думать, что наше богатство уравновесит, в известной степени, нашу численную слабость и, в особенности, что Германия не сможет воспользоваться всеми своими миллионами солдат)». (Prix de la guerre, стр. 33–35).
Крупные препятствия безграничному росту численности ставит развитие современной техники и вместе с тем высокая стоимость в частности флота и авиации. (см. нашу статью в Морском Сборнике, 1923, № 9).
О развитии численности современных вооруженных сил см. приложение 2. Основные цифры дают справочник «Вооруженные силы иностранных государств» (1923), Ежегодник Коминтерна, Statesmans Yearbook. См. также данные специальных военных журналов и военных справочников Jaпе (флот и авиация) и др.
2. Подвижность армии. Несмотря на все значение численности вооруженных сил, все же сама по себе она не является окончательно решающим фактором в военном деле. При прочих равных условиях менее многочисленная армия вовсе не лишена шансов на победу.
Дело стратегии – найти средства для того, чтобы обрушиться на более многочисленного врага с превосходными силами, найдя для этого подходящий пункт и надлежащее время.
Это возможно, прежде всего, вследствие связанности армий с театром войны (всякой армии необходима достаточно обширная арена, чтобы развернуться, маневрировать и проявлять свою силу) 3). Но еще важнее то стратегическое преимущество, которое может дать армии большая подвижность, по сравнению с ее неприятелем.
Тот же автор (Мопtechant) высказывает интересные соображения относительно подвижности.
«Для наступающих армий необходима наибольшая подвижность».
«При этом всякий переход, выполненный с наибольшей скоростью в определенном направлении, представляет собой работу сил, приведенных в движение. Продвигаясь вперед, армия выполняет таким образом известную работу, которую можно научным образом измерить, если принять ее равной произведению силы на путь, пройденный в направлении этой силы. Если при этом сила зависит от самих солдат и их вооружения, то пройденный путь зависит от природы тех путей, по которым солдаты должны следовать».
Пехотинец может, пройти всюду, но факторы его работы малы. Произведение его силы Р на путь Е, который он может сделать в день (момент подвижности, скорость) не может быть велико. Поэтому и прибегают к специальным родам войск: коннице и артиллерии.
В работе кавалерии F не велико, но Е относительно велико.
Поэтому был поставлен вопрос о перевозке пехоты особыми средствами. В конце XVIII века во Франции обратились к содействию почтовых средств – мальпостов и почтовых дилижансов. Карно воспользовался этой идеей в 1793 г., позднее то же делал Наполеон (см. также подлинную историю марнских «такси» в Rev. Мill. Fг. 1922, № 2).
В работе артиллерии оба фактора F и Е значительно увеличены. Поэтому ее можно было бы считать высшим родом оружия, но лишь на известных театрах.
Отсюда же, прибавим мы, то преобладание, которое может получить среди прочих родов войск военная авиация, обладающая наибольшей Е при условии, что и факторы ее тактической силы получат достаточное развитие, а также увеличится и ее стратегическая подвижность, так как и авиация требует дополнительных условий для стратегических перебросок. Невежественное мнение, что «самолеты – не огурцы и могут сами перелетать, куда надо», уступает место настоятельной необходимости транспортирования самолётов на сухопутном фронте, на море (авианосные военные корабли) и в воздухе (дирижабли для транспортирования самолётов)».
Закон скорости и его значение весьма наглядно обнаруживаются в морском деле. Ср. об этом интересные замечания Монтешана («десять слабее вооруженных «Бленгеймов» равняются пятнадцати «Формидеблям», вследствие превосходства их скорости»).
Подвижность и ее стратегическое значение делает, поэтому, лозунг наибольших скоростей одним из определяющих моментов в развитии военной техники, в военном судостроении и авиации.
Мы должны различать: 1) тактическую подвижность отдельных единиц различных видов оружия, зависящую в общем от двигательного механизма, движущей силы и пути движения 4) и
2) стратегическую подвижность, иначе условия подвижности крупных соединений сил, таких, как целые армии, эскадры, большие массы артиллерии и т. д.
Так, для артиллерии тактическая подвижность – есть «легкость, с которой пушка любого калибра перемещается на любой почве в любом направлении, при условии использования в полной мере баллистической мощи орудия, а стратегическая подвижность – есть возможность перебрасывать с одного фронта на другой на довольно большие расстояния и при относительно больших скоростях (в среднем от 15 до 20 км) большие массы артиллерии, чем достигается эффект внезапности». (Розье, предисловие).
Что касается стратегической подвижности, то она непосредственно, как таковая, связывается с экономикой. Поэтому, мы рассмотрим ее отдельно от тактической подвижности.
Как и по отношению к численности, рассмотрим: а) как условие стратегической подвижности относится к прочим элементам военной мощи и б) каково отношение подвижности к экономическим факторам, иначе, в чем, заключаются ее требования от экономики.
а. Численность вооруженных сил кладет известный предел увеличению подвижности. Так, общая подвижность армии не может превышать подвижности наиболее медленно передвигающихся составных ее частей, подвижность эскадры ограничивается наименьшею подвижностью входящих в эскадру кораблей и т. д. Помимо этого большая численность составляет сама по себе препятствие для подвижности в случае ограниченности театра военных действий. Слишком сжатые массы войск теряют в своей подвижности.
Аналогичный предел полагают подвижности снабжение и техника современных армий. Поэтому в то время как на море (и в воздухе) подвижность сил все увеличивается, вследствие увеличения тактической подвижности, на суше она, напротив, уменьшается.
Дневной марш сухопутной армии стал меньше, чем был прежде. Современный корпус, со всеми его impedimenta (грузом, балластом), не может сделать самостоятельно более 50 километров в день 5).
Для того, чтобы преодолеть эти затруднения, приходится прежде всего усложнять организацию, в том. числе и организацию снабжения, путем заготовления запасов и складов продовольствия и т. п. В известном смысле это равносильно надлежащей подготовке и театра военных действий. Для обеспечения подвижности действующих сил необходимо распределение ее на армии, дивизии, полки, батальоны и т. п. Немецкая военная максима – «врозь идти – вместе бить» диктуется соображениями того же порядка. Наконец, чем больше театр военных действий, тем более должна быть высока потенциальная подвижность военных сил и тем больше требований предъявляет подвижность армии и к подготовке театра войны. Наоборот, увеличение подвижности армии тем самым расширяет пределы театра военных действий. Эта связь объясняет в известном отношении мировой характер современных войн.
Итак, стратегическая подвижность имеет тенденцию возрастать вместе с надлежащей организацией армии и ее снабжения и с подготовкой театра военных действий, а также и с развитием транспортной техники.
При этом, как общее правило, требования, предъявляемые подвижностью армий, увеличиваются в результате роста численности армии, расширения театра войны и усложнения задач снабжения и техники (разрушительного аппарата войны).
б. Подвижность военной мощи предъявляет требования к экономике прямо в виде требования устройства и развития стратегических путей сообщения и приспособления путей сообщения и подвижного состава для массовых перевозок и, косвенно, вследствие усложнения задач транспортной техники, необходимости иметь высоко развитую организацию армии, надлежащее снабжение и подготовить театр войны.
Удовлетворение прямых требований (именно создание и развитие путей сообщения) в известной степени ограничивается тем, что неприятель также может использовать эти пути сообщения.
Прямые требования подвижности осуществляются как народным хозяйством (внутренние пути сообщения и базы для внешних сношений), так и мировым хозяйством (напр., мировое судоходство и мировые пути сообщения).
Финансовое бремя удовлетворения этих требований непосредственно ложится на государственное хозяйство страны.
3. Военная техника. Если главная боевая задача армии состоит в разрушении и уничтожении военной мощи неприятеля, то из этого еще не следует, что задачи военной техники ограничиваются разрушением, хотя разрушение и составляет важнейшую ее задачу, как правильно указывает Гендерсон. Перед военной техникой, как основным элементом военной мощи, в действительности открываются следующие задачи:
1. Разрушение при посредстве механических или химических сил: техника разрушения.
2. Движение (все виды транспорта и средства передвижения: техника передвижения.
3. Передача известий: техника средств сообщения, в том числе и полиграфическое искусство.
4. Противодействие неприятельской технике (разрушению, движению и передаче известий) и защита (противодействие силе разрушения): техника противодействия (за исключением техники активного разрушения) и техника защиты (заграждения, инженерные сооружения, бронировка, маскировка, противогазовая защита и т. д.).
5. Производство всех средств военной техники: техника военной промышленности.
Таким образом, в техническом аппарате войны мы должны различать:
I. Технические средства разрушения. В них мы замечаем следующие виды и составные части их: а) аппараты – разрушители при посредстве механических сил. Составные части аппарат, его станок, служащий для передвижения аппарата (нотабене – гусеничная артиллерия); агент разрушения – снаряд (оболочка и агент разрушения); движущая сила и ее источник – порох, взрывчатые вещества, сжатый воздух, электричество; вспомогательные аппараты для управления, безопасности, регулирования скорости, автоматичности, снабжения и т. д.
б) аппараты – разрушители при посредстве химических средств (химическая война). Составные части те же, или только некоторые из них, но агент разрушения – химический деятель – напр., удушливые газы; что же касается движущей силы, то она может заимствоваться иногда извне, например, сила ветра, может также создаваться движущей силой газов и т. д. (химические снаряды и бомбы).
Вопрос о передвижении станка есть всегда вопрос техники передвижения.
Вспомогательные аппараты предназначены облегчать снабжение аппарата разрушителя, обеспечивать автоматичность и безопасность его действия (охлаждение пулеметов), регулировать скорость, делать возможным управление (в частности на расстоянии) и т. д. Эти вспомогательные аппараты сами по себе могут быть чрезвычайно сложны.
2. Технические средства передвижения. В них мы должны различать вопросы о двигателе; станке двигателя; движущей силе; ее источнике (питающая сила); подвижном составе, пути движения, станциях и вспомогательных аппаратах. Для железной дороги: паровая машина, паровоз с тендером, пар, топливо, вагоны, рельсовый путь и станции с их оборудованием, различные вспомогательные аппараты (для нагрузки и т. д.).
С этой же точки зрения необходимо рассмотреть водный и воздушный транспорт, а также и остальные виды сухопутного транспорта (гужевой и механический).
3. Технические средства сообщения и передачи известий, как телеграф, телефон, радиотелеграф и радиотелефон. Сигнализациям средства обеспечения безопасности кораблевождения и авиации. Печать (прокламации, газеты и т. п.) и ее средства – типографские и полиграфические машины.
4. Технические средства противодействия и защиты: от механических сил разрушения (бронирование, щиты, панцыри, полевые укрепления, инженерные сооружения, внутренние переборки кораблей и т. п.), от химических средств (противогазовые тампоны, маски и респираторы), от живой силы (проволочные заграждения, полевые укрепления – окопы, и т. д., минные поля – барьеры и т. д.), от подводных лодок (противолодочные сети и минные поля) и т. п. Сюда же мы отнесем и технические средства маскировки (камуфляж: дымовые завесы, ложные батареи, ложные окопы и т. д.) и т. наз. радио-завесу, которая на несколько решающих часов «может совершенно расстроить радио связь противника».
Само собой разумеется, что средства борьбы с бомбардировочными самолетами, в роде зенитной артиллерии или самолётов-истребителей, относятся не к технике защиты в указанном смысле слова, но к технике разрушения. Известное правило: «всякое средство нападения находит себе средство противодействия» относится ко всей широкой области военной техники.
Подготовка средств защиты от артиллерийского огня, по Гаскуену, развивалась в следующем порядке: начиная от стальной окопной маски, наплечников, легкого деревянного противошрапнельного щита до казематов против тяжелой бомбардировки, она проходит через целую серию прикрытий, более или менее поглощающих силу взрыва. Кроме того, она заключала в себе всю совокупность способов привести противника к израсходованию своих снарядов в стрельбе по предметам, не имеющим никакого военного значения, например, по ложным батареям, ложным окопам и, в особенности, по ложным наблюдательным пунктам (указ, соч., стр. 70).
5. Технические средства военной промышленности: дело создания всех видов военно-технических аппаратов и приборов и производства предметов их снабжения, в том числе снабжения агентами разрушения, движущей силой и запасными частями.
Наряду со всеми этими техническими средствами нельзя забывать и о таком важном моменте военной техники, как надлежащим образом подготовленный технический персонал, со всеми данными его научной, организационной и профессиональной подготовки.
Все вообще вопросы военной техники теснейшим образом связаны с наличием военной мощи и условиями ее существования и проявления. Здесь, однако, не место говорить ни о тех стратегическом и тактическом преимуществах, которые открывает более совершенная военная техника, ни о сравнительном значении техники на ряду с численностью, подвижностью и другими элементами военной мощи.
Говоря о современной технике, мы подчеркиваем здесь лишь ее основную черту: необходимость ее постоянного усовершенствования и постоянного возобновления технических средств.
При этом всякое новое изобретение представляет собой определенную и обусловленную экономическим развитием ступень технической эволюции, которую мы с полным правом могли бы называть и непрерывной технической революцией как в условиях промышленности, так и в условиях войны.
Мы позволяем себе следующим образом характеризовать основные черты современной военной техники, каждая из которых придает своеобразный характер всем ее требованиям. Это именно:
1. Революционный характер военной техники, непредвиденность и неизбежность ее развития. Отсюда именно «борьба за инициативу».
2. Стремление к механизации войны, с заменой, где, можно, человеческой силы механическими и, по возможности автоматическими приспособлениями.
3. Специализация технических средств, при которой каждый военный аппарат должен выполнять лишь одну из возможных функций, но зато с наибольшим совершенством, образуя вместе с остальными целостную систему (по принципу соединения труда), управляемую единым командованием (см. приложение п. 2).
4. Стандартизация как военных аппаратов (сведение типов аппаратов к минимальному числу), так в особенности их составных частей. Так, при рассмотрении применяемой во всех армиях артиллерии и составлении программы нового строительства специальная американская комиссия старалась, главным образом, достичь минимума разнообразия в калибрах, что является условием быстрого и полного обучения и снабжения как припасами, так и запасными частями. Принцип этот уже давно применяется в широком масштабе в, промышленности под названием «стандартизации» (производство продуктов по сравнительно небольшому числу образцов). Главнейшая выгода последней состоит в возможности массового производства, а с точки зрения войны еще и в возможности использовать частично попорченные аппараты и в легкости снабжения (взаимозаменяемость составных частей).
5. Важным присущим военной технике требованием надо считать также точность отдельных частей сложных военных аппаратов и аккуратность их пригонки. «Почти все предметы боевого снабжения, – говорит А. Маниковский, – за немногими исключениями требуют такой степени точности работы, к какой не привыкла наша общая промышленность даже в той ее части, которая изготовляет такие ответственные механизмы, как паровозы, двигатели разных систем и т. д. Это относится как к наиболее простым, по степени требуемой точности, предметам, каковы: артиллерийские снаряды, капсюльные втулки, ручные гранаты, бомбометы, минометы, так и к более сложным предметам, каковы: винтовки, пулеметы, дистанционные трубки, взрыватели безопасного типа, артиллерийские орудия. Так как почти все части выдерживают при стрельбе громадные давления, то пригонка должна быть очень точной. Точность измеряется особыми мерительными приборами – лекалами, число которых очень велико, а изготовление которых дело исключительно трудное».
6. Массовой характер требований современной войны, связанный с законом численности и с мировыми размерами империалистической войны, сказывается в особенности, в области снабжения, где мы его и рассмотрим подробнее.
7. Наконец, с точки зрения интересов войны, благоприятным моментом является, конечно, «пластичность форм воплощения капитала», позволяющая производствам вполне мирного характера перестраиваться для работы на оборону, а также и некоторые другие свойства современной техники (см. ниже, гл. 5).
В общем из этих тенденций складывается основная черта современной империалистической войны, именно ее стремление индустриализироваться. Военная машина становится не только продуктом современной индустрии, но и образцом этой индустрии (Ф. Энгельс).
Применение всякого нового технического изобретения на время дает преимущество той нации и стороне, которая раньше сумеет им воспользоваться.
Однако, в силу связи техники с наукой, и вследствие мирового по преимуществу характера последней, всякое техническое изобретение становится достоянием всего мира, поскольку этому не встречается препятствий в промышленном и культурном развитии отдельных стран.