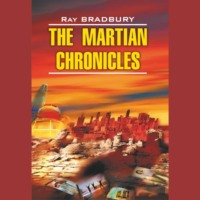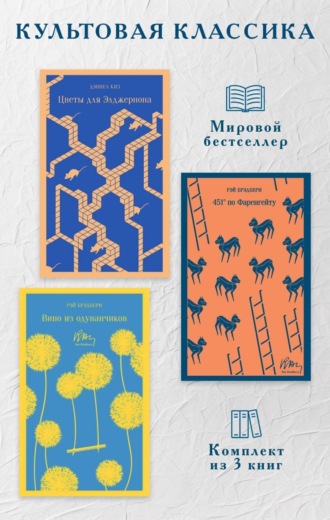
Полная версия
Культовая классика. Комплект из 3 книг
– Кто эта маленькая девочка? – спросила Джейн.
– Это я!
Девочки так и приникли к фото.
– Но она не похожа на вас, – невозмутимо сказала Джейн. – Кто угодно может достать такое фото.
Они пристально рассматривали фотокарточку.
– А есть у вас другие фотографии, миссис Бентли? – спросила Алиса. – Где вы постарше? В пятнадцать лет, в двадцать, в сорок и в пятьдесят?
Девочки прыснули со смеху.
– С какой стати я буду вам что-то предъявлять? – сказала миссис Бентли.
– А с какой стати мы должны вам верить? – ответила Джейн.
– Но это фото доказывает, что я была молода!
– Это какая-то другая девочка, вроде нас. Вы ее у кого-нибудь одолжили.
– Я была замужем!
– А где мистер Бентли?
– Его уже давно нет на свете. Был бы он здесь, он бы вам сказал, как юно и свежо я выглядела в двадцать два.
– Но его тут нет, и он не может ничего сказать. Так что же это доказывает?
– У меня есть свидетельство о браке.
– Вы его тоже могли одолжить. Я поверю, что вы были когда-то молоды, – Джейн аж зажмурилась, чтобы показать, насколько она уверена в себе, – если вы найдете кого-то, кто подтвердит, что видел вас в десятилетнем возрасте.
– Меня видели тысячи людей, но их нет в живых, глупенькая… или они больны, живут в других городах. Я не знаю здесь ни души. Я переехала сюда несколько лет назад. Так что никто не видел меня в юном возрасте.
– А-а! Вот так-то! – Джейн подмигнула своим спутникам. – Никто ее не видел!
– Послушай! – Миссис Бентли схватила девочку за запястье. – Такие вещи нужно принимать на веру. Однажды и ты будешь такая же старая, как я. Тебе будут говорить то же самое: «О, нет, – будут говорить они, – эти стервятники никогда не были птичками колибри, эти совы никогда не были иволгами, эти попугаи никогда не были синими птицами!» Однажды ты станешь такой, как я!
– Нет, не станем! – заявили девочки. – Как такое может быть? – спросили они друг друга.
– Поживете – увидите, – сказала миссис Бентли.
А про себя подумала: «О боже, дети есть дети, старушки есть старушки, а между ними – пропасть. Они не представляют себе перемен, которых не могут увидеть».
– Твоя мама, – спросила она у Джейн, – разве ты не замечала, что с годами она меняется?
– Нет, – ответила Джейн, – она всегда такая же.
В самом деле, если изо дня в день живешь с кем-то бок о бок, люди не меняются ни на йоту. Когда они уезжают надолго, на годы, только тогда видишь разительные перемены. И она представила, как она семьдесят два года катит на ревущем черном поезде и, наконец, оказывается на платформе, и тут ей все кричат: «Елена Бентли, неужели это ты?»
– Я лучше пойду домой, – сказала Джейн. – Спасибо за колечко. Оно мне впору.
– Спасибо за гребень. Такой милый.
– Спасибо за фотографию маленькой девочки.
– Вернитесь… я вам их не дарила! – закричала миссис Бентли вслед им, сбегающим по ступенькам. – Они мои!
– Стойте, – сказал Том, догоняя девочек. – Отдайте!
– Нет уж, дудки! Она их украла. Они принадлежали другой маленькой девочке. Она их стащила. Спасибо! – прокричала Алиса.
Как она их ни увещевала, девчушки исчезли, как мошки в темноте.
– Мне очень жаль, – сказал Том, глядя с лужайки на миссис Бентли, и ушел восвояси.
«Они отобрали у меня колечко, гребень и фотокарточку, – думала миссис Бентли. – Я опустошена, опустошена! У меня взяли часть моей жизни».
Ночь она пролежала не смыкая глаз, в окружении сундуков и безделушек. Обведя взглядом аккуратные кипы и стопки всякого добра, игрушек и оперных плюмажей, она вопросила вслух:
– Неужели все это принадлежит мне?
Или же это изощренные уловки старой дамы, которая пытается убедить себя в том, что у нее было прошлое? Время проходит бесследно. Человек всегда живет в настоящем. Может, некогда она и была девочкой, но не сейчас. Ее детство прошло, и ничто не в силах его вернуть.
В комнату ворвался ночной ветер, и белая занавеска забилась о черную трость, вот уже много лет прислоненную к стене в компании всякой всячины. Трость задрожала и брякнулась с деревянным стуком на лунную дорожку. Блеснул ее золотой ободок. Мужнина оперная трость. Казалось, это он по своему обыкновению указует тростью в ее сторону, обращаясь к ней своим печальным мягким урезонивающим голосом в тех редких случаях, когда у них случались размолвки.
– Дети правы, – сказал бы он. – Ничего они у тебя не слямзили, моя дорогая. Здесь и сейчас эти вещи принадлежали не тебе, а ей – той, другой твоей ипостаси, давным-давно.
«О-о», – сказала себе миссис Бентли. Потом, как на старинной граммофонной пластинке, шипящей под стальной иглой, ей вспомнился один разговор с мистером Бентли… Утонченный мистер Бентли, с розовой гвоздикой в петлице, говорил ей:
– Моя дорогая, ты никогда не постигнешь время. Ты вечно пытаешься быть той, кем была, а не той, кто ты есть сегодня вечером. Чего ради ты копишь театральные билеты и программки? Они будут только причинять тебе боль. Выбрось их, дорогая.
Но миссис Бентли их упорно хранила.
– Ничего не получится, – продолжал мистер Бентли, отпивая чай. – Сколько бы ты ни пыталась оставаться той, кем ты некогда была, ты можешь быть только той, кто ты есть здесь и сейчас. Время завораживает. Когда тебе девять, ты воображаешь, будто тебе всегда было и будет девять. Когда тебе тридцать, кажется, ты навсегда нашла приятное равновесие на краешке среднего возраста. А когда тебе стукнет семьдесят, то тебе семьдесят, раз и навсегда. Ты застреваешь то в молодости, то в старости, но ты живешь в настоящем, и, кроме настоящего, ничего не существует.
Это был один из немногих, но дружеских споров в их тихой супружеской жизни. Он никогда не одобрял ее увлечения барахлом.
– Будь той, кто ты есть, схорони то, чем ты не являешься, – говорил он. – Билетные корешки – самообман. Хранение всякой всячины – фокус-покус с зеркалами.
Что бы он сказал, будь он жив?
– Ты сохраняешь коконы, – вот что бы он сказал. – Корсеты, в некотором роде, которые уж никогда не будут тебе впору. Так зачем их сохранять? Ты ни за что не докажешь, что когда-то была молода. Фотографии? Нет. Они лгут. Ты не имеешь ничего общего с фотографией.
– Справки, свидетельства?
– Нет, дорогая. Ты – не дата, не чернила, не бумага. Ты – не сундук с хламом и пылью. Ты – это только ты, здесь, сейчас, в настоящем.
Миссис Бентли кивнула своим воспоминаниям и вздохнула с облегчением.
– Да, я поняла. Поняла.
Трость с золотым ободком тихо лежала на залитом лунным светом ковре.
– Утром, – сказала она, обращаясь к трости. – Я предприму решительные меры и стану только собой и никем более из прошлых лет. Да, вот как я поступлю.
Она уснула…
* * *Утро выдалось сияющим и зеленым. У ее двери, тихонько постукивая по москитной сетке, стояли те самые девочки.
– Найдется для нас еще что-нибудь, миссис Бентли? Из вещей маленькой девочки?
Она провела их по коридору в библиотеку.
– Бери.
Она протянула Джейн платье, в котором играла роль дочери мандарина, когда ей было пятнадцать лет.
– И это бери. И это.
Калейдоскоп. Увеличительное стекло.
– Забирайте что хотите, – сказала миссис Бентли. – Книги, коньки, куклы. Всё. Они ваши.
– Наши?
– Только ваши. А вы поможете мне справиться с одним маленьким дельцем через час. На заднем дворе я собираюсь запалить большой костер. Да. Опустошаю сундуки, выбрасываю мусор для мусорщика. Он мне не принадлежит. Ничто никому никогда не принадлежит.
– Поможем, – пообещали они.
Миссис Бентли провела участников шествия на задний двор с полной охапкой всякого добра и коробком спичек в придачу.
Все лето на веранде миссис Бентли, как пташки на проводах, сидели в ожидании две маленькие девочки и Том. И как только раздавался серебряный перезвон, устроенный мороженщиком, дверь отворялась, миссис Бентли выплывала наружу, опустив руку в зев среброустого ридикюля. И полчаса они находились на веранде, дети и пожилая дама, и смеялись, погружая холод в тепло, поглощая шоколадные сосульки. Наконец-то они стали добрыми друзьями.
– Сколько вам лет, миссис Бентли?
– Семьдесят два.
– А сколько вам было пятьдесят лет назад?
– Семьдесят два.
– И вы никогда не были молодой, правда же? Никогда не повязывали ленточек, не носили платьиц?
– Никогда.
– У вас есть имя?
– Меня зовут миссис Бентли.
– И вы всегда жили в этом доме?
– Всегда.
– И никогда не были хорошенькой?
– Никогда.
– Никогда, в миллион триллионов лет?
При этом обе девочки склонялись к пожилой даме и ждали в спертой четырехчасовой тишине летнего полдня.
– Никогда, – отвечала миссис Бентли, – в миллион триллионов лет.
* * *– Ну, как, Дуг, приготовил свой пятицентовый блокнот?
– Конечно!
Дуг хорошенько послюнявил карандаш.
– Что там у нас уже записано?
– Все церемонии.
– Четвертое июля и тому подобное, вино из одуванчиков и всякая мелочь вроде подвешивания качелей на веранде. Ну как?
– Здесь написано, что 1 июня 1928 года я съел свое первое за лето эскимо.
– Это еще не лето, а весна.
– Все равно, оно было «первое», поэтому я записал. 25 июня купил теннисные туфли. 26 июня ходил босиком по траве. Вон сколько всего! А ты чем похвастаешься, Том? Что ты делал в первый раз? В каких удивительных священнодействиях участвовал на каникулах – ловил речных раков или хватал водомерок?
– Никому в жизни не удавалось схватить водомерку. Ты знаешь хоть кого-нибудь, кто поймал водомерку? Вспомни!
– Вспоминаю.
– Ну и?
– Ты прав. Никто, ни разу. И не поймает, наверное. Слишком уж они юркие.
– Дело даже не в том, что юркие. Их просто не существует, – сказал Том.
Он подумал и кивнул.
– Именно. Их вообще никогда не существовало. Вот что я напишу.
Он склонился и прошептал на ухо брату. Дуглас записал.
Оба посмотрели на запись.
– Черт возьми! – воскликнул Дуглас. – Как же я раньше не догадался! Гениально! Правильно! Старые люди никогда не были детьми!
– И мне их жаль, – сказал Том, сидя, не шелохнувшись. – Мы ничем не можем им помочь.
XV[15]
– Город, кажется, кишит машинами… – сказал Дуглас. – Мистер Ауфман и его Машина счастья, мисс Ферн и мисс Роберта с их Зеленой машиной. А теперь, Чарли, что это у тебя?
– Машина времени! – выпалил Чарли Вудмен, еле поспевая за ним. – Честное-пречестное слово!
– Путешествия в прошлое и будущее? – поинтересовался Джон Хафф, обгоняя их без особых усилий.
– Только в прошлое, но всего сразу не бывает. Вот мы и на месте.
Чарли Вудмен остановился у забора.
Дуглас присмотрелся к дому.
– Э, да это же дом полковника Фрилея. Нет тут никаких Машин времени. Разве он изобретатель? Даже если так, мы бы давно уже знали про такую серьезную штуку, как Машина времени.
Чарли и Джон на цыпочках поднялись по ступенькам веранды, а Дуглас фыркнул и покачал головой, оставаясь внизу.
– Ладно тебе, Дуглас, – сказал Чарли. – Не умничай. Ну, конечно, полковник Фрилей не изобретал Машину времени. Но он кровно в ней заинтересован, и она находится здесь давным-давно. Просто мы по своей глупости ее не замечали! Так что прощай, Дуглас Сполдинг!
Чарли взял Джона под руку, словно сопровождал даму, распахнул москитную сетку на веранде и зашел внутрь. Москитная сетка не хлопнула.
Дуглас перехватил ее и молча следовал за ними по пятам.
Чарли пересек огражденную веранду, постучал, отворил внутреннюю дверь. Они заглянули в длинный темный коридор, ведущий в комнату, освещенную, как подводный грот, нежно-зеленый, приглушенный, расплывчатый.
– Полковник Фрилей?
Тишина.
– Он плохо слышит, – прошептал Чарли. – Но сказал мне, чтобы я просто заходил и звал его. Полковник!
В ответ только пыль посыпалась вниз по винтовой лестнице. Затем в дальнем конце коридора, в подводном царстве возникло слабое шевеление.
Они не без опаски двинулись вперед и заглянули в комнату, в которой обнаружились всего два предмета обстановки – старик и стул. Они обладали сходством – оба истончились до того, что просматривалось их внутреннее строение, члены и сочленения, жилы и сухожилия. Все остальное – некрашеный дощатый пол, голые стены, потолок и огромная масса недвижного воздуха.
– Он что, умер? – прошептал Дуглас.
– Нет, просто обдумывает, куда бы ему еще отправиться странствовать, – сказал Чарли очень важно и тихо. – Полковник?
Один из предметов побуревшей мебели зашевелился, и это оказался полковник, щурясь и озираясь по сторонам, улыбнувшись безумной беззубой улыбкой.
– Чарли!
– Полковник, вот Дуг и Джон пришли…
– Добро пожаловать, мальчики, присаживайтесь, присаживайтесь!
Мальчики смущенно сели на пол.
– А где же… – начал было Дуглас.
Чарли вовремя ткнул его в ребро.
– Где же… что? – спросил полковник Фрилей.
– Он хочет сказать, где же смысл нам самим говорить.
Чарли скорчил рожу Дугласу, затем улыбнулся старику.
– Нам сказать нечего, лучше вы расскажите нам что-нибудь, полковник.
– Берегись, Чарли, старики только и ждут, чтобы их попросили поговорить. И как начнут тарахтеть, что твой ржавый лифт в шахте.
– Чэн Ляньсу, – предложил наугад Чарли.
– Что? – переспросил полковник.
– Бостон, – подсказал Чарли, – 1910 год.
– Бостон, 1910 год… – Полковник нахмурился. – А, ну конечно, Чэн Ляньсу!
– Да, полковник, сэр.
– Ну-ка, посмотрим…
Голос полковника зажурчал, безмятежно покачиваясь на волнах озера.
– Посмотрим, посмотрим…
Мальчики затаили дыхание.
Полковник Фрилей смежил веки.
– 1 октября 1910 года, мирный прохладный осенний вечер, Бостонский театр варьете. Да. Аншлаг. Все в ожидании. Оркестр, фанфары, занавес! Чэн Ляньсу, великий маг Востока! Вот он, на сцене! А вот я, первый ряд, середина!
– Ловля пули! – выкрикивает он. – Добровольцы?
Встает человек рядом со мной.
– Проверьте винтовку! – говорит Чэн. – Сделайте на пуле отметину! – велит он. – А теперь цельтесь в мое лицо и выстрелите этой пулей из винтовки, – говорит Чэн, – и на том конце сцены я поймаю пулю зубами!
Полковник Фрилей делает глубокий вздох и умолкает.
Дуглас вытаращился на него в благоговейном ужасе. Джон Хафф и Чарли совершенно оторопели. Вот старик продолжает. Его голова и туловище неподвижны, и только губы шевелятся.
– Товсь! Цельсь! Пли! – скомандовал Чэн Ляньсу. – Бах! Трещит выстрел. Чэн Ляньсу вскрикивает, шатается, падает с окровавленным лицом. Ад кромешный! Зрители срываются с мест. Что-то не так с винтовкой. Кто-то говорит: «Он мертв». И действительно. Мертв. Ужас, ужас… Я навсегда запомню его лицо в кровавой маске. Впопыхах опускают занавес. Дамы голосят… Тысяча девятьсот десятый год… Бостон… Театр варьете… Несчастный… Несчастный…
Полковник Фрилей медленно приоткрывает глаза.
– Ух ты! Полковник, потрясающе! – говорит Чарли. – А про Пауни Билла расскажите?
– Про Пауни Билла?..
– И про то время, когда вы были в прерии в тысяча восемьсот семьдесят пятом году.
– Пауни Билл…
Полковник погрузился во тьму.
– Тысяча восемьсот семьдесят пятый… да. Мы с Пауни Биллом стоим в ожидании на небольшом возвышении посреди прерий.
– Ш-ш-ш, – шепчет Пауни Билл. – Прислушайся.
Вот-вот на исполинских подмостках прерии разыграется буря. Гром. Еле слышный. Снова гром. Уже сильнее. По всей прерии, насколько хватало зрения, огромное приземистое зловещее грязно-желтое облако, кишащее черными молниями, полсотни миль в ширину и в длину, да с милю высотой и не выше дюйма над поверхностью земли.
– Боже! – вырвалось у меня. – Боже праведный! – воскликнул я с вершины холма. – Господь всемогущий!
Мальчики, земля сотрясалась, как лишенное рассудка, обезумевшее сердце. Меня колотил озноб. Твердь земная содрогалась: бой, биение, грохот. Рокот. Вот вам редкое слово: рокот. O, как же рокотала неистовая буря по верхам и низам, переваливая через холмы. Ты видел непроницаемую тучу, и больше ничего.
– Вот они! – закричал Пауни Билл.
И облако оказалось пылью! Не парами, не дождем, а пылью прерий, взметнувшейся из-под сухой, как порох, травы, словно мельчайшая кукурузная мука, пыльца, воспламененная лучами проглянувшего солнца. Я снова возопил! Почему? Потому что завеса адской пылищи спала и я увидел их! Клянусь! Великое воинство древних прерий – бизонов, буйволов!
Полковник позволил тишине сгуститься, потом развеял ее.
– Головы словно кулачищи исполинских негров, тулова как локомотивы, глаза как раскаленные уголья! Двадцать, пятьдесят, двести тысяч железных снарядов примчались с запада и сбились с пути, растаптывая прах, навстречу забвению!
Пыль приподнялась и на какой-то миг явила мне море горбов и грив, я увидел, как черные косматые волны вздымаются и падают…
– Стреляй! – кричит Пауни Билл. – Стреляй!
Я взвожу курок, целюсь.
– Стреляй же!
А я стою, словно карающая десница божья, созерцая великое, летящее мимо видение силы и мощи, темную ночь среди бела дня, мерцающий траурный поезд, нескончаемый и печальный. Как я мог стрелять по траурному поезду? Да и кто бы смог? Вы бы смогли, мальчики? Я думал, лишь бы пыль снова опустилась и укрыла черную роковую гущу в несусветной давке и толчее. И что бы вы думали, мальчики, пыль опустилась. Туча упрятала мириады копыт, выбивающих громы и выколачивающих из бури пыль. Пауни Билл бранился и толкал меня в плечо. Но я был рад, что не пульнул каким-то жалким свинцовым окатышем ни в то облако, ни в то могущество, которое оно скрывало. Мне хотелось лишь стоять и смотреть, как время уносится прочь огромными скачками, скрытыми бурей, поднятой уносящимися в небытие бизонами.
Прошел час, три часа, шесть часов, прежде чем буря унеслась прочь за горизонт навстречу менее добросердечным людям, чем я. Пауни Билл исчез. Я остался в одиночестве, совершенно оглушенный. Ошеломленный, я пересек город в ста милях к югу, не слыша людских голосов и не испытывая никакого желания их слышать. Мне хотелось на какое-то время запомнить этот грохот. И сейчас, когда летними днями вроде этого над озером собирается дождь, я слышу тот ужасающе великолепный гром… и как жаль, что вы такого не слыхивали…
Крупный нос полковника Фрилея просвечивал, словно чашка из белого фарфора, налитая слабеньким тепленьким апельсиновым чайком.
– Он уснул? – спросил наконец Дуглас.
– Нет, – ответил Чарли, – батарейки перезаряжает.
Полковник Фрилей дышал часто и слабо, словно после долгой пробежки. Наконец он открыл глаза.
– Да, сэр! – сказал восхищенный Чарли.
– Привет, Чарли.
Полковник удивленно улыбнулся мальчишкам.
– Знакомьтесь, это Дуг и Джон, – сказал Чарли.
– Очень приятно!
Мальчики поздоровались.
– А… – спросил Дуглас, – где же?..
– Черт, какой же ты тупой! – Чарли ткнул Дугласа в плечо и повернулся к полковнику: – Так о чем вы говорили, сэр?
– Я? Говорил? – пробормотал старикан.
– Гражданская война, – негромко предложил Джон Хафф. – Он ее помнит?
– Помню ли я? – спросил полковник. – О, еще как, еще как!
Его голос задрожал, и он снова закрыл глаза.
– Все помню. Только… на чьей стороне я воевал…
– Цвет вашего мундира… – начал было Чарли.
– Цвета плывут перед глазами, – прошептал полковник, – линяют. Я вижу солдат, но давным-давно перестал различать цвета их шинелей или фуражек. Я родился в Иллинойсе, вырос в Виргинии, женился в Нью-Йорке, построил дом в Теннесси, и вот на склоне лет я, ах ты боже мой, вернулся в Гринтаун. Теперь понятно, почему цвета расплываются и перемешиваются…
– Но вы помните, по какую сторону гор вы сражались? – Чарли не стал повышать голоса. – Солнце вставало по левую или правую руку? Вы маршировали в сторону Канады или Мексики?
– Вроде бы в одно утро солнце вставало по мою правую руку, в другое – над левым плечом. Мы маршировали в любом направлении. Минуло почти семьдесят лет. Рассветы далекого прошлого забываются.
– Вы же помните победы в каких-нибудь битвах?
– Нет, – сказал старик, уйдя в себя. – Не припомню, чтобы кто-то где-то когда-то одержал победу. Войны не выигрывают, Чарли. Ты все время терпишь поражения, и тот, кто терпит поражение последним, запрашивает мира. Все, что я помню, это череда поражений, горя и ничего хорошего, кроме конца. Конец войне, Чарльз, вот победа, ничего не имеющая общего с пушками. Но вряд ли вы, ребята, хотите, чтобы я рассказывал о такой победе.
– Сражение при Энтитеме, – сказал Джон Хафф. – Спросите про сражение при Энтитеме.
– Я был там.
Мальчики просияли.
– Сражение при Булл-Ран, спросите про Булл-Ран.
– Я был там.
Тихим голосом.
– А при Шайло?
– Не было в моей жизни года, чтобы я не думал: ах, какое красивое название и какая досада, что оно встречается только в реляциях о битве.
– Значит, и при Шайло. А сражение за форт Самтер?
– Я видел первые клубы порохового дыма.
Мечтательным голосом:
– Столько всего нахлынуло, столько всего. Помню песни. «Тихий вечер на Потомаке, солдаты мирно спят и видят сны; их шатры в прозрачном свете осенней луны или в отблесках костра». Помню, помню… «Тихий вечер на Потомаке, ни звука, лишь журчание реки, и выпадает роса на лица погибших, дозорные навечно закончили службу»!.. После капитуляции мистер Линкольн на балконе Белого дома велел исполнить «Отвернись, отвернись, отвернись, Диксиленд»… А еще одна дама в Бостоне всего за одну ночь сочинила песню на все времена: «Моим глазам явилось славное пришествие Господне. Он давит гроздья гнева». Поздними ночами мои уста поют о днях минувших: «О, кавалеры Дикси, на страже Южных берегов…», «Когда мальчики вернутся с лаврами победы»… Столько песен с обеих сторон разносил ночной ветер с севера и с юга. «Мы идем, Отец Авраам, триста тысяч нас, а то и больше». «Ставим палатки, ставим палатки, в старом лагере ставим палатки». «Ура! Ура! Мы несем торжество, ура, ура, знамя нашей свободы»…
Голос старого человека дрогнул.
Мальчики долго сидели не шелохнувшись. Потом Чарли повернулся к Дугласу и спросил:
– Так похож он или не похож?
Дуглас сделал два вдоха и сказал:
– Конечно, похож.
Полковник открыл глаза.
– На кого это я, конечно, похож?
– На Машину времени, – пролепетал Дуглас. – На Машину времени.
Полковник смотрел на мальчиков целых пять секунд. Теперь его голос преисполнился благоговения.
– Вот, значит, как вы меня величаете, мальчики?
– Да, сэр, полковник.
– Да, сэр.
Полковник медленно откинулся на спинку кресла и пристально посмотрел на мальчиков, на свои руки, на голую стену у них за спиной.
Чарли поднялся.
– Ну, мы, пожалуй, пойдем. До свидания и спасибо вам, полковник.
– Что? А! До свидания, мальчики.
Дуглас, Джон и Чарли направились на цыпочках к двери.
Хотя они находились в поле зрения полковника Фрилея, он не увидел их ухода.
* * *На улице мальчики встрепенулись от оклика из окна на первом этаже у них над головами.
– Эй!
Они подняли глаза.
– Да, сэр, полковник?
Полковник высунулся из окна, махая рукой.
– Я думал о ваших словах, мальчики!
– Да, сэр?
– Так вот, вы правы! Как я раньше об этом не догадался! Машина времени, ей-богу, Машина времени!
– Да, сэр!
– До встречи, ребята. Поднимайтесь на борт в любое время!
В конце улицы они снова обернулись: полковник по-прежнему махал им рукой. Они помахали в ответ, на душе у них стало легко и приятно, и они зашагали дальше.
– Чух-чух-чух, – произнес Джон. – Я могу путешествовать в прошлое на двенадцать лет назад. Брум-брум-брум.
– Да, – сказал Чарли, оглядываясь на притихший дом. – А вот на сто лет назад не можешь.
– Нет, – сказал Джон. – На сто лет назад не могу. Это уже настоящее странствие. Это уже настоящая машина.
Целую минуту они шли молча, глядя себе под ноги. Дошагали до забора.
– Кто последний перелезет через забор – девчонка! – сказал Дуглас.
Всю дорогу до дому Дугласа обзывали «Дорой».
* * *Поздно ночью Том проснулся и обнаружил, что Дуглас что-то лихорадочно строчит в пятицентовом блокноте при свете фонарика.
– Дуг, что новенького?
– Новенького? Да всё! Подсчитываю свои богатства, Том! Вот, смотри: Машина счастья не сработала. Невелика печаль! У меня целый год впереди. Если нужно прокатиться по главным улицам, то я на «Трамвае Гринтауна» все выведаю и все высмотрю. Нужно пройтись по переулкам, и я стучусь в дверь мисс Ферн и мисс Роберты, они подзаряжают аккумуляторы своего электрокара, и мы отправляемся в плавание по тротуарам. Захотелось пошнырять по задворкам, перемахивать через заборы, облазить изнанку Гринтауна – у меня есть новенькие тенниски. Трамвай, электрокар, тенниски! Все к моим услугам. Это еще что, Том, это еще что! Ты послушай! Если я хочу оказаться там, куда никто не способен отправиться, потому что у них не хватает ума до такого додуматься. Если я хочу в тысяча восемьсот шестидесятый год, потом в тысяча восемьсот семьдесят пятый и снова в тысяча восемьсот шестидесятый, я запрыгиваю в экспресс «Полковник Фрилей»! Вот что я тут записал: «Может, старые люди никогда не были детьми, как мы говорим про миссис Бентли, но, большими или маленькими, некоторые из них сражались при Аппоматтоксе летом тысяча восемьсот шестьдесят пятого года». Зрение у них было как у индейцев, и они затылком видели лучше, чем мы с тобой глазами.