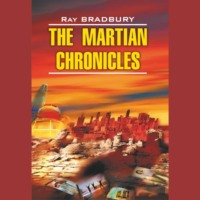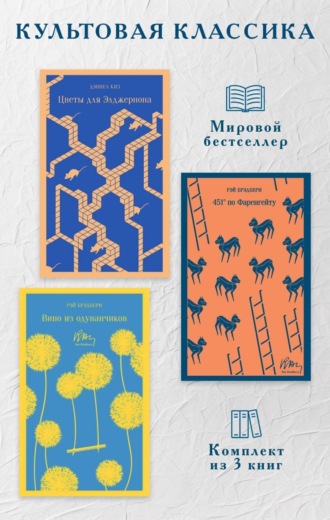
Полная версия
Культовая классика. Комплект из 3 книг
Над головой из окна Саула вдруг выпорхнуло нечто белое. Сердце Лео Ауфмана так и екнуло. Потом он понял, что это выдуло в ночь оконную занавеску. Но казалось, нечто сокровенное и трепетное, как душа мальчика, вырвалось из его комнаты. И Лео Ауфман вскинул руки вверх, словно хотел перехватить, втолкнуть это нечто обратно в спящий дом.
Похолодевший, дрожащий, он вошел в дом и поднялся в спальню Саула, втащил трепетавшую занавеску внутрь и запер окно, чтобы это бледное создание больше не убегало. Потом уселся на край кровати и обнял Саула.
* * *– «Рассказ о двух городах»? Мой. «Лавка древностей»? Ха! Это Лео Ауфману на все времена! «Большие ожидания»? Были такие у меня когда-то. Но теперь «Большие ожидания» пусть останутся у него!
– Что происходит? – спросил Лео Ауфман, войдя в комнату.
– Раздел общего имущества, – объявила жена. – Когда папочка по ночам пугает своего сыночка, значит, пора все рубить пополам! С дороги, Мистер Холодный Дом, Лавка Древностей! Во всех этих книгах не найдется сумасшедшего ученого вроде Лео Ауфмана. Ни единого!
– Ты уходишь, даже не испытав машину! – возмутился он. – Испытай, и ты разберешь свои вещи и останешься!
– «Том Свифт и его электрический аннигилятор». А это чье? – вопросила она. – Стоит ли гадать?
Фыркнув, она протянула «Тома Свифта» Лео Ауфману.
* * *Под вечер все книги, посуда, одежда и постельное белье были сложены в стопки. Одна здесь. Другая – там. Четыре здесь. Четыре – там. Десяток здесь. Десяток – там. Лина Ауфман, утомленная подсчетами, вынуждена была присесть.
– Ладно, – тяжко выдохнула она, – прежде чем я уйду, докажи мне, что не станешь пугать ночными кошмарами невинных сынишек!
Не говоря ни слова, Лео Ауфман повел жену в сумерки. Она стояла перед оранжевым ящиком высотой восемь футов[13].
– И это счастье? – сказала она. – Какую кнопку нажать, чтобы испытывать безудержное веселье, благодарность, удовлетворенность и неоплатный долг?
Стали собираться дети.
– Мама, – сказал Саул, – не надо!
– Должна же я знать, о чем я тут кричу, Саул.
Она залезла в машину, уселась и взглянула на мужа, качая головой.
– Это не мне надо, а тебе, издерганная крикливая развалина.
– Пожалуйста, – сказал он. – Вот увидишь!
Он захлопнул дверцу.
– Нажми кнопку! – крикнул он ставшей невидимой жене.
Щелчок. Машина тихо задрожала, как огромная собака, которой снятся сны.
– Папа! – сказал обеспокоенный Саул.
– Слушай! – велел Лео Ауфман.
Сначала ничего не происходило, кроме дрожания внутренних тайно движущихся шестеренок и винтиков машины.
– С мамой все в порядке? – спросила Наоми.
– Все в порядке, с ней все нормально! Так, а теперь!
А внутри машины Лина Ауфман сказала:
– Ох!
Потом изумленно сказала жена-невидимка:
– Ах! Ты только глянь! Париж!
Затем:
– Лондон! А вот Рим! Пирамиды! Сфинкс!
– Сфинкс, вы слышите, дети? – шептал и смеялся Лео Ауфман.
– Духи! – удивленно воскликнула Лина Ауфман.
Где-то патефон играл «Голубой Дунай».
– Музыка! Я танцую!
– Ей только кажется, что она танцует, – доверительно сообщил папа всему миру.
– Потрясающе! – сказала невидимая женщина.
Лео Ауфман покраснел.
– Какая понимающая женщина.
Затем в недрах Машины счастья Лина Ауфман заплакала.
Улыбка сошла с лица изобретателя.
– Она плачет, – сказала Наоми.
– Не может быть!
– Плачет, – сказал Саул.
– Такого просто не может быть! – Лео Ауфман, моргая, прижался ухом к машине. – Нет… действительно… как дитя…
Ему оставалось только открыть дверцу.
– Подожди.
Жена сидела. Слезы в три ручья катились по щекам.
– Дай закончить.
И она поплакала еще немного.
Лео Ауфман, потрясенный, выключил машину.
– О, нет ничего печальнее на свете! – горевала она. – Я чувствую себя ужасно, гнусно.
Она выбралась наружу через дверь.
– Сначала этот Париж…
– Чем плох Париж?
– Всю свою жизнь я и мечтать не смела о Париже. А теперь ты заставил меня задуматься: Париж! Мне сразу захотелось в Париж, но я знаю, что это несбыточно!
– Машина ему почти не уступает.
– Нет. Сидя в ней, я понимала. Я говорила себе, это понарошку.
– Мама, не надо плакать.
Она посмотрела на него большими черными влажными очами.
– Ты заставил меня танцевать. Мы не танцевали целых двадцать лет!
– Я свожу тебя на танцы завтра же вечером!
– Нет, нет! Это несущественно. Не должно быть существенным. Но твоя машина говорит, что это важно! И я ей поверила! Я еще немного поплачу, и все встанет на свои места.
– Что еще?
– Что еще? Машина уверяет меня: «ты молода». А я не молода. Лжет эта твоя Машина Печали!
– Что в ней печального?
Его жена теперь немного успокоилась.
– Лео, твой просчет заключается в том, что ты забыл о том часе и дне, когда нам всем предстоит выбраться из этой штуки и вернуться к грязной посуде и незаправленным постелям. Пока ты сидишь внутри, конечно, солнышко, можно сказать, светит вечно, воздух сладок, температура что надо. Все, что ты хочешь, чтобы не кончалось, не кончается. Но снаружи дети ждут обеда. Нужно пришивать пуговицы к одежде. К тому же, давай начистоту, Лео, сколько можно пялиться на закат? Кому нужен вечный закат? Кому нужна идеальная температура? Кому нужно, чтобы воздух всегда благоухал? Так что спустя некоторое время кто будет обращать на это внимание? Лучше закат на одну-две минуты. Потом что-нибудь другое. Люди так уж устроены, Лео. Как же ты забыл?
– Забыл?
– Закаты обожают за то, что они случаются однажды и исчезают.
– Но, Лина, вот это и печально.
– Нет, если закат непрестанный, это тебе наскучит. Вот истинная печаль. Так что ты сделал две вещи, которых не следовало. Скоротечные явления ты замедлил и остановил. Ты перенес издалека на наш задний двор вещи, которые не имеют к нам никакого отношения, а только твердят тебе: «Нет, Лина Ауфман, никогда тебе не доведется путешествовать, не видать тебе Парижа как своих ушей». Но это я и так знаю. Зачем же мне это говорить? Лучше забыть и обходиться без этого, Лео, перебиться как-нибудь, а?
Лео Ауфман оперся о машину и изумленно отдернул обожженную руку.
– Что же теперь, Лина? – спросил он.
– Не мне судить. Я только знаю, что пока эта штука здесь, мне захочется выйти, как Саулу прошлой ночью, и против собственной воли залезть в нее, и смотреть на все эти далекие края, и каждый раз плакать и стать негодной семьей для тебя.
– Я не понимаю, – сказал он, – как я мог так заблуждаться. Дай мне убедиться в твоей правоте.
Он залез в машину.
– Ты не уйдешь?
Жена кивнула:
– Мы тебя дождемся, Лео.
Он захлопнул дверцу. В теплом сумраке он замешкался, нажал на кнопку и отдыхал, откинувшись назад, в цветомузыке, когда услышал чей-то крик.
– Пожар, папа! Машина горит!
Кто-то молотил в дверь. Он вскочил, стукнулся головой и выпал наружу, как только дверца поддалась. За спиной он услышал приглушенный взрыв. Все семейство обратилось в бегство. Лео Ауфман обернулся и закричал:
– Саул, вызови пожарную команду!
Лина Ауфман перехватила Саула на бегу и сказала:
– Саул, подожди.
Взметнулся столб огня, раздался еще один приглушенный взрыв. Теперь уже машина заполыхала не на шутку.
Лина Ауфман кивнула.
– Ладно, Саул, – сказала она. – Беги, вызывай пожарных.
* * *Почти все прибежали на пожар. Дедушка Сполдинг, Дуглас и Том, почти все постояльцы и кое-кто из пожилых с того берега оврага, все дети из шести соседних кварталов. И дети Лео Ауфмана стояли впереди, гордые тем, как неотразимо вырывались языки пламени из-под крыши гаража.
Дедушка Сполдинг, глядя на дымный шар в небе, тихо сказал:
– Лео, это она? Твоя Машина счастья?
– Когда-нибудь, – сказал Лео Ауфман, – я разберусь и скажу вам.
Лина Ауфман, стоя в темноте, смотрела, как пожарные вбегают во двор и выбегают, как гудит гараж и проваливается крыша.
– Лео, – сказала она, – чтобы разобраться, года не понадобится. Оглянись вокруг. Помолчи. Потом скажешь мне. Я буду расставлять книги на полки и одежду буду развешивать, готовить ужин, поздний ужин. Вон как темно. Идемте, дети, помогите маме.
* * *Когда пожарные и соседи разошлись, Лео Ауфман остался с дедушкой Сполдингом, Дугласом и Томом размышлять над дымящимися развалинами. Он помешал ногой мокрые уголья и медленно проговорил то, что должен был сказать:
– Первое, что узнаешь в жизни, – это то, что ты глупец. Последнее, что узнаешь в жизни, – это то, что ты тот же глупец. За один час я многое обдумал. Я думал, Лео Ауфман – слепец!.. Хотите увидеть настоящую Машину счастья? Запатентованную пару тыщ лет назад? Так она до сих пор работает. Не скажу, что всегда хорошо, нет! Но ведь работает! Все это время она находится здесь.
– А как же пожар? – спросил Дуглас.
– Конечно, и пожар, и гараж! Но, как сказала Лина, чтобы во всем разобраться, года не нужно. То, что сгорело в гараже, не в счет!
Они пошли следом за ним по ступенькам на веранду.
– Вот, – прошептал Лео Ауфман, – окно. Не шумите и увидите.
Не без колебаний дедушка, Дуглас и Том стали всматриваться сквозь большое оконное стекло.
А по ту сторону окна, в уютных островках света лампы просматривалось то, что хотел видеть Лео Ауфман. Саул и Маршалл играли в шахматы на кофейном столике. В столовой Ребекка выкладывала столовое серебро. Наоми вырезала платьица для бумажных кукол. Руфь рисовала акварельными красками. Иосиф играл со своей электрической железной дорогой. В кухонную дверь было видно, как Лина Ауфман достает жаркое из дышащей паром духовки. Каждая рука, голова, каждые губы выполняли большие или малые движения. Из-за стекла доносились их отдаленные голоса, чье-то высокое сладкоголосое пение. Доносился и аромат выпекаемого хлеба. И ты знал наверняка, это настоящий хлеб, который вскоре намажут настоящим маслом. Все было на своих местах, и все действовало.
Дедушка, Дуглас и Том обернулись на Лео Ауфмана, который с порозовевшими щеками умиротворенно смотрел сквозь окно.
– Ну, конечно, – бормотал он. – Вот же она. – И смотрел то с мягкой грустью, то с мгновенным восхищением и, наконец, молчаливым признанием на то, как всё до последней мелочи в этом доме смешивалось, сотрясалось, успокаивалось, приходило во взвешенное состояние и снова – в непрерывное движение.
– Машина счастья, – сказал он. – Машина счастья.
Спустя мгновение он исчез.
Дедушка, Дуглас и Том увидели, как внутри он занимается то мелкой починкой, то крупным ремонтом, устраняет неполадки, хлопоча среди всех этих теплых, восхитительных, бесконечно тонких, навсегда непостижимых и вечно непоседливых деталей.
Затем, улыбаясь, они спустились по ступенькам в прохладу летнего вечера.
XIII
Дважды в год они выносили на двор большие хлопающие ковры и расстилали на лужайке, где они смотрелись несуразно и осиротело. Затем бабушка и мама выходили из дома, вооруженные чем-то вроде спинок от прекрасных плетеных стульев из кафе-мороженого в центре города. Эти диковинные проволочные жезлы раздавались по кругу всем – Дугласу, Тому, бабушке, прабабушке и маме – застывшим, как сборище ведьмаков с подручными, перед орнаментами Армении, под вековой пылью. Затем по команде прабабушки – подмигиванием или улыбкой – бичи приподнимались, и свистящая проволока опускалась снова и снова, стегая ковры.
– Вот вам! Получайте! – приговаривала прабабушка. – Ну-ка, мальчики, давите мух, крушите вшей!
– Ну, ты даешь! – сказала бабушка своей матушке.
Все засмеялись. Над ними заклубилась пыльная буря. И они поперхнулись своим смехом.
В молотом-перемолотом воздухе колыхался дождь из ворсинок, поднимались волны песка, трепетали золотые блестки трубочного табака. В передышках между выбиваниями мальчики замечали на ковре цепочки своих и чужих следов, оттиснутых мириадами; теперь их разгладит и сотрет прибой, который непрерывно обрушивается на берег Востока.
– Вот сюда твой муженек пролил кофе! – бабушка врезала по ковру.
– А вот сюда ты бухнула сливки! – прабабушка выбила из ковра большущий смерч пыли.
– Посмотрите на потертости! Ах, мальчики, мальчики!
– Дважды бабушка, глянь-ка, чернила с твоего пера!
– Вздор! Мои фиолетовые, а эти обычные, синие!
Ба-бах!
– Посмотрите, тропку протоптали от двери до кухни. Еда! Вот что приманивает львов на водопой! Давайте ее передвинем, чтобы ходили в обратную сторону.
– А еще лучше выставим мужчин из дому.
– И пусть разуваются за дверью.
Ба-бах! Ба-бах!
Наконец они развесили ковры на бельевой веревке. Том разглядывал замысловатые извилины, завитки и цветы, таинственные фигурки, повторяющиеся узоры.
– Том, сынок, что ты стоишь сложа руки. Выбивай!
– Я здесь вижу всякую всячину. Интересно! – сказал Том.
Дуглас недоверчиво посмотрел на него.
– Что это ты там видишь?
– Да весь наш город, людей, дома. А вот наш дом!
Бах!
– Наша улица!
Бах!
– Эта чернота – овраг!
Бах!
– Тут школа!
Бах!
– Эта смешная картинка – ты, Дуг!
Бах!
– Вот прабабушка, бабушка, мама.
Бах!
– Сколько лет назад постелили этот ковер?
– Пятнадцать.
– Пятнадцать лет топотания по ковру. Всех вижу, кто наследил, – изумился Том.
– Языкастый малый, – сказала прабабушка.
– Я вижу все, что происходило в нашем доме за эти годы!
Бах!
– Вижу прошлое, но мне и будущее видно. Стоит только прищуриться и вглядеться попристальнее в узоры, и я увижу, где мы будем ходить и бегать завтра.
Дуглас опустил выбивалку.
– Что еще ты разглядел в ковре?
– Нитки, что же еще, – сказала прабабушка. – Одна основа и осталась. Видно, как ковер соткан.
– Точно! – заговорщицки сказал Том. – Нитки то в одну сторону, то в другую. Мне все видно. Злейшие враги. Закоренелые грешники. Тут скверная погода, здесь ясная. Пикники. Трапезы. Клубничные праздники.
Он с важным видом тыкал выбивалкой то в одно место, то в другое.
– Ничего себе тут у меня, оказывается, пансиончик! – сказала бабушка, раскрасневшись от усилий.
– Здесь все расплывчато. Наклони голову, Дуг, прищурься. Вечером лучше видно, конечно, когда ковер дома, на полу, под лампой. И ты увидишь тени разных очертаний, светлые и темные, и следи, куда убегают нитки, ощути ворс, проведи рукой по волокнам. Пахнет пустыней, ни дать ни взять. Зной и песок, как в ящике с мумией. Видишь красную точку? Это Машина счастья полыхает!
– Наверняка кетчуп с какого-нибудь сэндвича, – заявила мама.
– Нет, Машина счастья, – возразил Дуглас, опечаленный тем, что она там горит.
Он-то надеялся, что Лео Ауфман все приведет в порядок, чтобы с лиц не сходили улыбки, чтобы его внутренний маленький гироскоп склонялся к Солнцу всякий раз, когда Земля норовила отклониться в открытый космос и во тьму. Но ничего подобного. Лео Ауфман такое учудил. Итог – пепел и головешки. Дуглас как врезал.
Бах! Бах!
– Смотрите, а вон зеленый электрокар! Мисс Ферн! Мисс Роберта! – воскликнул Том. – Би-би-и!
Бах!
Все рассмеялись.
– Вот тянутся узловатые жилки твоей жизни, Дуг. Слишком много кисленьких яблочек и солений перед сном!
– Какие, где? – вскричал Дуглас, пристально всматриваясь.
– Вот эта – через год. Эта – через два. А эта – через три, четыре, пять лет!
Бах! Скрученная выбивалка зашипела, как змея в подслеповатом небе.
– А на этой тебе расти и расти, – сказал Том.
Том стегнул ковер с такой силой, что из его сотрясенной до основания фактуры вышибло пыль пяти тыщ веков, которая застыла на один ужасающий миг в воздухе, пока Дуглас, щурясь, разглядывал содрогание орнаментов, и тут с немым ревом армянская лавина пыли обрушилась, и он навечно погряз в ней у них на глазах…
XIV[14]
С чего и как началась ее дружба с детьми, пожилая миссис Бентли уже запамятовала. Она частенько встречала их, подобно мотылькам и обезьянкам у бакалейщика среди капусты и связок бананов, улыбалась им, и они улыбались в ответ. Миссис Бентли наблюдала, как они отпечатывают следы на снегу, дышат осенними дымками, стряхивают вихри яблоневых лепестков по весне, но они не вызывали у нее опасений. Что же до нее, она содержала дом в безукоризненном порядке, все лежало на своем месте, полы усердно натерты, еда старательно законсервирована, шляпные булавки воткнуты в подушечки, а ящики комодов в ее спальне битком забиты разными разностями прошлого.
Миссис Бентли слыла хранительницей. Она сберегала билеты, старые театральные программки, обрезки кружев, шарфы, железнодорожные квитанции – все атрибуты и символы бытия.
– У меня целая стопка грампластинок, – частенько говаривала она. – Вот Карузо. Это было в 1916 году в Нью-Йорке. Мне было шестьдесят, и Джон был еще жив. Вот «Июньская луна», 1924-й, думаю, после кончины Джона.
Он был, в некотором роде, величайшей утратой ее жизни. Его единственного ей не удалось сохранить из того, что она больше всего любила касаться, слушать и созерцать. Джон пребывал в далеких луговых просторах, обозначенный датами, заключенный в ящик, сокрытый травами, и после него ничего не сохранилось, кроме шелкового цилиндра, трости и приличного костюма в шкафу. А все остальное пожрала моль.
Но она сохранила все, что было в ее силах. Ее платья с розовыми цветами, сдавленные в необъятных черных кофрах вперемешку с нафталиновыми шариками, и хрустальная посуда ее детства были доставлены ею в этот городок, когда она переехала сюда пять лет назад. Ее супруг владел доходными домами в нескольких городах, и, подобно шахматной фигурке из старой слоновой кости, она перемещалась с места на место, распродавая их один за другим, до тех пор, пока не очутилась в этом странном городе, в обществе почерневших сундуков и уродливой мебели, окружавших ее, словно создания из первобытного зверинца.
История с детьми приключилась в середине лета. Миссис Бентли вышла на веранду полить плющ и узрела двух белобрысых девочек и маленького мальчика, разлегшихся на ее лужайке и наслаждающихся покалыванием несметного количества травинок.
В тот самый момент, когда пожелтевшая маска лица миссис Бентли улыбнулась им, из-за угла, тренькая, как эльфийский оркестрик, показался фургончик мороженщика, бренча и лязгая шероховатыми ледяными мелодийками, подобно тем, что умеют извлекать из хрустальных бокалов знатоки этого дела. Дети привстали, повернув головы, как подсолнухи к солнцу.
Миссис Бентли позвала:
– Хотите угоститься? Эй, сюда!
Фургончик мороженщика остановился, и в обмен на свои деньги она получила фирменное мороженое «Ледниковый период». Дети поблагодарили ее набитыми снегом ртами, смерив ее взглядами от туфель на пуговичках до седой шевелюры.
– Хотите попробовать? – спросил мальчуган.
– О нет, дитя мое. Я постарела и заледенела. Я не оттаю и в самый жаркий день, – усмехнулась миссис Бентли.
Они отнесли крошечные леднички на веранду и уселись на диван-качалку.
– Я Алиса, она – Джейн, а он – Том Сполдинг.
– Как это мило. А я миссис Бентли. Меня величали Хелен.
Они уставились на нее.
– Не верите, что меня звали Хелен?
– Я не знал, что у старых дам бывают имена, – сказал Том, моргая.
Миссис Бентли суховато усмехнулась.
– Он хочет сказать, что к ним не обращаются по именам, – сказала Джейн.
– Дорогуша, когда тебе будет столько, сколько мне, и тебя не будут звать Джейн. Старость ужасно церемонна. Только «миссис». Молодежь не станет обращаться ко мне по имени Хелен. Слишком фамильярно.
– Сколько вам лет? – спросила Алиса.
– Я еще застала птеродактилей, – ухмыльнулась миссис Бентли.
– А все-таки?
– Семьдесят два.
Они призадумались, посасывая свое заледенелое лакомство.
– Это много, – сказал Том.
– Я не изменилась с тех пор, когда была в вашем возрасте, – сказала пожилая женщина.
– В нашем возрасте?
– Да. Когда-то я была такой же хорошенькой девчушкой, как ты, Джейн, и как ты, Алиса.
Молчание.
– Что случилось?
– Ничего.
Джейн встала.
– О, надеюсь, вам не нужно рано уходить. Вы еще не закончили… Да в чем дело?
– Моя мама говорит, что врать нехорошо, – сказала Джейн.
– Разумеется, нехорошо. И даже очень плохо, – согласилась миссис Бентли.
– И слушать чужое вранье.
– Да кто же тебе врет, Джейн?
Джейн посмотрела на нее, а потом раздраженно отвела взгляд.
– Вы и врете.
– Я?
Миссис Бентли рассмеялась и прижала свою сморщенную лапку к увядшей груди.
– О чем?
– О своем возрасте. О том, что вы были маленькой девочкой.
Миссис Бентли остолбенела.
– Но много лет назад я действительно была такой же, как вы, маленькой девочкой.
– Алиса, Том, за мной!
– Подождите, – сказала миссис Бентли. – Неужели вы мне не верите?
– Не знаю, – ответила Джейн. – Нет. Не верю.
– Но это же нелепо! Ведь совершенно очевидно, что каждый был когда-то молод!
– Только не вы, – прошептала Джейн, потупив глаза, разглядывая самое себя.
Палочка от мороженого упала в ванильную лужицу на полу веранды.
– Но ведь и мне было когда-то восемь, девять, десять, как всем вам.
Девочки прыснули быстро сдавленным смехом.
Миссис Бентли сверкнула глазами.
– Довольно, я не стану растрачивать свое утро на споры с десятилетними. Стоит ли говорить, мне самой когда-то было десять, и я была такой же глупенькой.
Девочки рассмеялись. Том почувствовал себя не в своей тарелке.
– Вы нас разыгрываете, – захихикала Джейн. – Вам ведь никогда не было десять, правда же, миссис Бентли?
– А ну, брысь по домам! – внезапно вскричала она, ибо их взгляды стали ей невыносимы. – Они еще тут хихикать будут!
– И зовут вас не Хелен?
– Хелен, а как же еще!
– Прощайте, – сказали девочки и, посмеиваясь, потопали по лужайке, окунувшись в море прохлады, а Том медленно поплелся за ними.
– Спасибо за мороженое!
– Когда-то я и в классики играла! – крикнула им вдогонку миссис Бентли, но их уже и след простыл.
* * *Остаток дня миссис Бентли провела, грохоча чайниками и шумно стряпая себе обед, время от времени подходя к двери в надежде подловить этих нахально гогочущих чертенят во время послеполуденной вылазки. Но даже если бы они появились, ну что бы она могла им сказать, с какой стати ей из-за этого переживать?
– Подумать только! – воскликнула миссис Бентли, обращаясь к изящной чайной чашке с розочками. – Никому никогда не приходило в голову сомневаться в том, что я была раньше девочкой. Какая ужасная глупость! Бог с ним, с моим преклонным возрастом, это меня не очень волнует, но я возмущена поползновениями на мое детство.
Она представила, как дети убегают под сень дуплистых деревьев, сжимая в ледяных пальцах ее невидимую, как воздух, юность.
После ужина она разглядывала без видимой причины, как ее руки неосознанно уверенными движениями, словно пара призрачных перчаток во время спиритического сеанса, собирали кое-какие предметы в надушенный платок. Затем вышла на веранду и непоколебимо простояла там полчаса.
Внезапно, как ночные птахи, выпорхнули дети, и голос миссис Бентли заставил их остановиться и трепыхать крылышками.
– Миссис Бентли?
– А ну-ка поднимайтесь на веранду! – скомандовала она, и девочки взбежали по ступенькам, а в хвосте за ними – Том.
– Миссис Бентли?
Они делали акцент на «миссис» словно ударяли по басовой фортепьянной струне, с особым усилием, как будто ее так зовут.
– Хочу вам показать кое-какие сокровища.
Она развернула надушенный платок и заглянула в его содержимое, словно оно таило неожиданности даже для нее. Она извлекла на свет божий крохотный гребень тончайшей работы, инкрустированный по краю стразами.
– Я носила его, когда мне было девять, – сказала она.
Джейн повертела его в руке и сказала:
– Как мило.
– Дай-ка гляну! – вскричала Алиса.
– А это крошечное колечко я носила, когда мне было восемь, – сказала миссис Бентли. – Оно уже мне не впору. Посмотрите сквозь него и увидите Пизанскую башню перед падением.
– Посмотрим, как она падает!
Девочки передавали его друг другу, пока Том не приладил его на пальчик одной из них.
– О-о, оно мне как раз впору! – воскликнула она.
– А гребень подходит моей голове! – выпалила Алиса.
Миссис Бентли достала округлую гальку.
– Вот, – сказала она. – Когда-то я играла ими в камешки.
Она метнула их, и они выстроились в созвездие на веранде.
– А это что!
И она, торжествуя, извлекла главный козырь – свою фотографию в семилетнем возрасте в платьице, подобном желтенькой бабочке, с золотистыми локонами, синими глазками дутого стекла и пухлыми ангельскими губками.