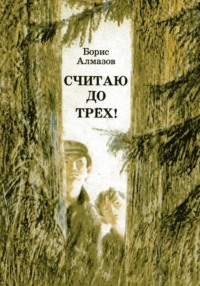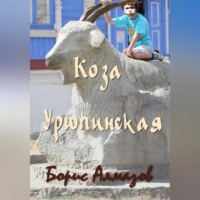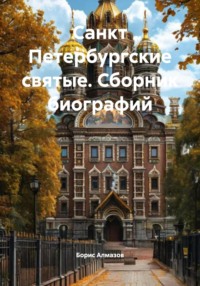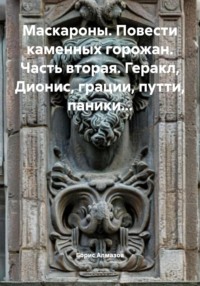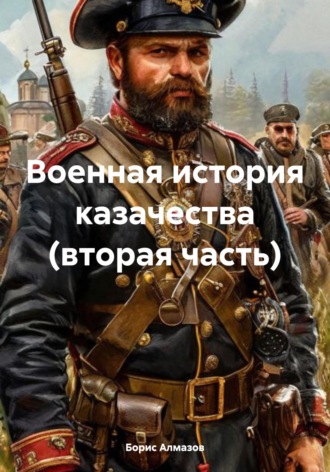
Полная версия
Военная история казачества. Часть вторая
Было-то было, если только выдался часок, другой. У Матвея Ивановича скулы сводило – рауты и парады, обеды и ужины, этикетные визиты. Цимлянского, хоть убей, не поднесут. О водке-кизлярке и не мечтай. Сей кавказский продукт, замечает классик родной литературы, атаман любил «дерябнуть».
Протокольно скучая и маясь, Матвей Иванович не оставался равнодушным к почестям. Он посмеивался над жаждой наград, но от наград не шарахался.
На мой взгляд, самым почетным было присвоение его имени кораблю, спущенному со стапелей. Британская корабельщина, как признавали сами англичане, отличалась «военно-морским шовинизмом». И вот, пожалуйста, сочла за честь внести имя донского казака в адмиралтейские списки своего флота. Высший знак признания. Повторяю, это на мой взгляд, весьма субъективный.
А Матвею Ивановичу, может, больше пришлась по сердцу и, скажем так, по руке другая награда. Та, о которой мельком упоминалось в связи с младой компаньонкой.
Эта бьла в алмазном венце, с гербом Соединенного королевства и вензельным портретом своего нового владельца. Саблю преподнесли Платову от имени города Лондона. Ее сталь, изукрашенная надписями. казалось, пела гимны блистательному военному дарованию графа Платова, который с неколебимым мужеством сражался за мир, тишину и благоденствие Европы. На ее ножнах были оттиснуты золотом боевые эпизоды из походной судьбины Матвея Ивановича. Почетное оружие сопровождало лестное послание герцога Веллингтона, героя Ватерлоо. Лет десять тому «Известия» сообщили:
– После смерти Платова эта сабля некоторое время находилась у его потомков, потом была передана в музей истории донского казачества в Новочеркасске. В 1920 году она вместе со многими другими ценностями была вывезена за границу и оказалась в Чехословакии. В годы фашистской оккупации сотрудники Пражского Национального музея сохранили ценности, вывезенные из Новочеркасска. В числе переданных советским офицерам экспонатов, похищенных белогвардейцами, была и сабля Платова. Сейчас она вновь находится в экспозиции Новочеркасского музея истории донского казачества.
Информация эпохи застоя требует примечания эпохи гласности. Как ни относись к упомянутым белым офицерам, а «похитителями» не сочтешь. Похитители не отдают драгоценности в музей. Похитители – это те, кто, распевая «Вышли мы все из народа», крал драгоценности московского государственного хранилища. И привет, с концами, поминай, как звали!
Такая же участь, неровен час, постигла бы и алмазный венец, сработанный старинными мастерами-ювелирами. Возможен и вариант. Помнится, поднесли золотое оружие генсеку тов. Брежневу Л. И. То-то был бы хорош с платовской саблей на боку. Угодливость лакеев не есть догадливость. Видать, никто из политбюро не заглянул в Новочеркасский музей.
Напоследок вот еще что. В восемьсот пятьдесят третьем году, к столетию со дня рождения знаменитого земляка, в Новочеркасске, им же основанном, воздвигли памятник атаману Платову. Десятилетия спустя Матвея Ивановича сменил на постаменте Владимир Ильич, основатель и партии, и государства нового типа.
Слыхал, будто начался сбор на восстановление памятника Платову. Расчетный счет открыт в банке на… м-да, в банке на улице Ленина. А что ж прикажете делать с образцом монументальной пропаганды? Будь моя воля, перенес бы на другое место. В назиданье внукам: не сотвори себе кумира.»
***
Я позволил себе привести статью господина Давыдова¸ где за резвым стилем, все – таки сильно сквозит «страх иудейский» перед казачеством, без купюр и не омолаживая ее, поскольку она характерна и показательна для понимания проблем казаков современным около интеллигентным обществом. И как ни противно, а возражать на такие статьи нужно. Разумеется, не для того чтобы переубедить господина Давыдова (носящего фамилию, правда если свою), воспетого в Поднятой целине сына проститутки, приехавшего «исправлять» голодом и расстрелами наш народ для новой (лагерной) жизни, его не переубедить. У него и ему подобных, как забито между серым веществом и лобной костью, происхождением и воспитанием убеждение, что казаки – разбойники, с тем они и во гроб лягут, а для казаков! Им надо знать как искажают нашу историю, как мажут дегтем имена наших героев. Старшему поколению не привыкать молчать и терпеть , а молодым такое надо знать!
Памятник Платову мы восстановили! И стоит он на своем пьедестале. Не обошлось в этом восстановлении без чуда! Дело в том, что «вождь и учитель» стоял на квадратном подножье, а памятник Матвею Ивановичу, восстановленный по рисункам и фотографиям, на круглом. Так вот когда чугунного Ильича убрали, оказалось, что под квадратом его подножия, остался выбитый в камне круглый след от первого атаманского памятника. И новый монумент Матвею Ивановичу лег в старый след – миллиметр в миллиметр! А ведь никто не примерял! Восстанавливали памятник, так сказать, на глазок, по старым фотографиям. «Вона как оно все промыслительно!» – утирали в многотысячной толпе коричневыми своими натруженными руками глаза старые казаки. Те, кто помнили еще тот первый памятник герою атаману, и все что происходило на этой казачьей площади прежде, включая молебен Краснова, расказачивание, парад казаков вермахта, и расстрел 1962 года…
А статья – полезная. Она типична для восприятия казачества большинством наших современников. Лампасы, нагайки, исторические анекдоты… Не будем за это ругать господина Давыдова. Он, судя, по всему, из репрессированных. Сочувствуем. Но, думаю, что там, в лагерях и зонах, если он встречал донцов и кубанцев, он ни о чем их не расспросил, а и расспросил бы – так ничего бы не понял. Зона то у них была общая, правда, я уверен, что сидели то они по разным причинам. Не исключено , что казаки за то что служили в Вермахте, вероятно, про такое г-н Давыдов и не слыхал. Но ему, как настоящему «советянину» – все, всегда и так ясно. А мне вот нет! Потому и хочется разобраться, что же за человек был Матвей Иванович Платов, и соответствуют ли многочисленные анекдоты о нем исторической правде.
Граф Матвей Иванович Платов
(1751-1818 гг.)
Сын казачьего полковника, возведенного за услуги при усмирение Пугачевского бунта в потомственные дворяне с чином армии премьер-майора. Атаман войска Донского, генерал-от-кавалерии, граф Матвей Иванович Платов родился на Дону 6-го Августа 1751 года. Уже 13-ти лет он вступил в службу урядником. Вскоре произведенный в офицеры, Платов получил свое боевое крещение в 1770 году под знаменами князя Долгорукого-Крымского, успев побывать в разных делах с неприятелем, за которые, 4-го Декабря 1770 года, получил чин есаула.
В 1771 г. Платов находился при атаке и занятии Перекопской линии, а затем Кинбурна и 1 Января 1772 года был произведен в войсковые старшины. Неоднократно сражаясь под г. Копылом на Кубани в 1774 году. Платов особенно отличился 3-го Апреля, отбив при верховьях р. Калалы, в несколько раз превосходившие его силы крымско-татарских кочевников Девлет-Герея. В конце того же года он был переведен в войска, действовавшие против Пугачева.
В 1782 и 1783 гг. Платов, под начальством Суворова, сражался на Кубани и в Крыму.
В 1784 году ходил против лезгин и других горских народов, за что 25-го Ноября пожалован от армии майором. По случаю открывшейся в 1788 году войны с Турцией, Платов, состоя уже в чине полковника, вступил в Typецкие пределы под начальством князя Потемкина.
6-го Декабря он отличился при осаде Очакова, а потом переведенный в Чугуевский регулярный казачий полк, храбрыми подвигами под Бендерами, Каушанами и взятием укрепленного замка Паланки, обратил на себя внимание Главнокомандующего, по представлении которого, 24-го Сентября 1789 года, был пожалован в бригадиры.
Блистательные подвиги Платова при взятии Измаила 11-го Декабря 1790 года доставили ему чин генерал-майора и 25-го Марта 1791 года—орден Св. Георгия 3 степени.
2-го Сентября 1793 года он был пожалован орденом Св. Владимира 2 степени, а за командование передовым отрядом в Персидском походе 1796 года и участии во взятии Дербента графом Зубовым получил золотую, украшенную алмазами саблю.
15-го Сентября 1801 года Платов был произведен в генерал-лейтенанты, с назначением атаманом всего Донского войска, а 8-го Сентября пожалован орденом Св. Анны 1 степени. В звании атамана, Платов занялся усовершенствованием всех отраслей вверенного ему войска.
18-ю Ноября 1806 года Платов пожалован орденом Св. Александра Невского, а затем получил назначение командовать всеми казачьими полками при армии, собиравшейся тогда в Пруссию.
Прибыв к месту своего назначения 26-го Января 1807 г., Платов на другой же день успел отличиться в кровавом бою под Преисиш-Эйлау и неутомимо преследовал французов от Ландсберга до Гейпьсберга; наконец, он мужественно прикрывал отступление русских войск к Тильзиту, за что награжден алмазными знаками к ордену Св. Александра Невского, драгоценной табакеркой с портретом Императора Александра 1-го и, 22-го Ноября—орденом Св. Георгия 2 степени, а от Прусского короля получил ордена Красного и Черного Орлов и тоже драгоценную табакерку с королевским портретом.
В 1809 г. Платов находился в числе особ, сопровождавших Императора Александра 1-го на Финляндский сейм в г. Борго, после чего, он был отправлен в Молдавскую армию и 29 июня был уже за Дунаем. В Августе 1809 г. занял город Бабадах и принудил к сдаче крепость Гирсово; 1-го Сентября получил орден Св. Владимира 1 ст., 4-го Сентября содействовал победе князя Багратиона при Рассевате, а 23-го Сентября разбил между Силистрией и Рущуком пятитысячный турецкий корпус, за что произведен в генералы-от-кавалерии.
С началом Отечественной войны 1812 года Платов, командуя всеми казачьими полками легкого корпуса, прикрывал со стороны Поречья и Рудии отступление нашей армии, а после сражения 4—6-го Августа, у Смоленска, составлял арьергард соединившихся армий.
26-гс Августа, под Бородино, находясь на правом фланг русской позиции, он направил своих казаков, при знаменитой атаке генерал-адъютанта Уварова, на левый фланг позиций французов против вице-короля Итальянского.
При отступлении от Москвы шел в арьергарде, причем у Можайска выдержал сильный натиск кавалерии короля Неаполитанского.
19-го Октября, под Колоцким монастырем, опрокинул арьергард маршала Даву, потерявшего здесь 27 орудий.
22-го и 23-го Октября помог Милорадовичу разбить под Вязьмою соединенные корпуса Даву, Нея и вице-короля Итальянского.
27-го Октября сам поразил на р. Вопи вице-короля Итальянского, у которого отбил 23 орудия, за что 29-го Октября возведен в графское Российской Империи достоинство.
8-го Ноября добил остаток корпуса Нея на переправе за Днепр у Сырокоренья, 11-го занял Оршу, а 15-го—Борисов.
28-го Ноября истребил на Погулянке, близь Вильны, 30-ти тысячный неприятельский корпус.
2-го Декабря нанес окончательное поражение французам у Ковно и немедленно переправился за р. Неман, а 1-го Января 1813 года был уже за р. Вислою, где удостоился получить лестный рескрипт Императора Александра 1-го.
В течении Отечественной войны войсками Платова взято всего: 546 орудий, более 30-ти знамен и до 70.000 пленных.
Начав кампанию 1813 г. блокадой Данцига, граф Платов, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению, сдал эту блокаду генерал-лейтенанту Левиэу и отправился в главную квартиру, где остался при Императоре Александре 1-м до Поишвнцка о перемирия.
16-го Сентября разбил у Ольтенбурга французский корпус Лефевра и преследовал его до Цейца.
4. 6 и 7-го Октября участвовал в «Битве народов» под Лейпцигом, и, преследуя неприятеля, взял в плен около 15 тыс. человек. За это дело он был награжден орденом Св. Андрея Первозванного.
10-го Октября снова поразил Лефевра под Веймарном.
Съ 16-го по 18-ое Октября помог баварскому корпусу генерала Вреде удерживать французов у Гайнау, за что награжден богатым бриллиантовым пером на шапку (челенгой) с вензелем Императора Александра I и лаврами для ношения на шапке.
В 1814 году, по вступлении союзных войск в пределы Франции, граф Платов, предводительствуя по прежнему легкими отрядами, ознаменовал себя новыми подвигами при Лионе, Эпинале, Шарме, взял Немюр, дрался при Арсисе, полонил у Сезанна отряд старой Наполеоновской гвардии, занял Фонтенебло и явился в Париж, откуда сопровождал Императора Александра I в Лондон, где англичане, восхищенные подвигами Донского атамана, поднесли графу Платову богатую почетную саблю и назвали именем его корабль, тогда же спущенный на воду, тогда как члены Оксфордского университета поднесли атаману докторский диплом.
В кампанию 1815 г. граф Платов хотя и был вторично во Франции, но не имел случая участвовать в военных действиях, а с водворением общего мира, возвратясь на родину проживал на Дону, пользуясь постоянным вниманием всех соотечественников. Умер граф Платов 3 Января 1818 года на Дону в слободе Еланчинской, и тело его погребено близ Новочеркасска, где на Александровской площади в честь знаменитого атамана воздвигнут памятник, открытый 9-го Мая 1853 г. с надписью: „Атаману графу Платову, за военные подвиги с 1770 по 1816 год признательные Донцы".
Сказки и правда об атамане Платове
Платов, граф Матвей Иванович (1753—1818), генерал от кавалерии, войсковой атаман в 1801-1818 гг., вечный шеф 4-го Донского казачьего полка. Прославленный герой Дона.
Его отец был выходцем из казачьих низов, казаком станицы Прибылянской в Черкасске, которая самим названием своим говорит о том, что в ней селили пришельцев (название станицы от «прибылых», а не от «прибыли – наживы») из самых разных мест. Дед Платова ловил рыбу по найму для богатых и знатных казаков. Отец, карьерой свой обязан успешной службе в Донском атаманском отряде – «Сотной команде казаков для секретных дел» – казачьем спецназе. Вероятно, как офицер пользующийся особым доверием, обладающий возможно, качествами, как бы мы сегодня сказали, контрразведчика, Иван Платов во время угрозы движения пугачевцев в сторону Москвы в 1774 г., перекрывает все пути для проникновения в древнюю столицу и далее на север агитаторов с «прелестными письмами» и лазутчиков «Мужицкого царя Петра Феодоровича», чем способствует тому, что здешние крепостные и прочий подлый люд (платящий подати) «в смущение не впадает».
Именно близостью к властям можно объяснить, что «безродному» Ивану Платову удается женить сына Матвея на дочери главы донской казачьей аристократии Степана Ефремова.
Увы! Родив сына Ивана Матвеевича, двадцатишестилетняя Надежда Степановна (1757 -1783 гг.) умерла. Потеря жены усугублялась для Матвея Платова еще и тем, что он сразу «вылетел из обоймы казачьих аристократов» и дорога к власти для него закрылась. Его ума и храбрости (таких то на Дону полно!) для карьеры оказалось недостаточно. Чин полковника он получил, поздно, только в 1788 году, долго командуя полком, то есть в 35 лет. Для сравнения: Иловайский 5 -й стал генерал –майором в 24 года , а Иловайский 12 –й в 27 лет.
Смешно читать резвую байку о том, как Платов «самый младший» на военном совете при взятии Измаила первым выкрикнул «Штурм!», чем завоевал любовь А.В. Суворова. Платов – самый младший по чину, а по возрасту едва ли не самый старший. И решение свое, совпавшее с мнением Суворова, произнес, не по юношеской петушиной горячности, а имея за спиной четверть века боевой службы! Платов был не знатен, но славен! Про полковника Платова уже пели песни!
В конце русско-турецкой войны в 1774 г., Платов приобрел легендарную, можно сказать, фольклорную известность победой над крымцами и ногайцами у степной речушки Калалах. Два казачьих полка, сопровождали транспорт с беженцами, уходившими на то время с Кубани и продовольствием для снабжения русских войск на Кавказской линии, подверглись внезапному нападению десятитысячной орды кочевников. Эта та самая история, когда
«На Великой Грязи (тюркск. калалах ),
Там где Черный ерик, ( тюркс. трещина, разлом, овраг)
Татарва нагнала сорок тысяч лошадей!»
Каждый конник в набеге вел три «заводных» (т.е в поводу) лошади. Одну – сменную верховую и вьючных, поскольку обозов, кочевники, (равно и казаки) с монгольских времен не имели. Далее по тексту:
«И покрылся ерик,
И покрылся берег –
Сотнями порубанных, пострелянных людей!
Любо, братцы любо,
Любо, братцы жить….!
Песню приписывают самому Платову, точных доказательств тому, пока, не имею, но скорее всего, что, в при любом авторстве, она про полковника Платова и про это сражение!
Укрывшиеся за мешками с мукой, «в чистом поле, как на скатерти», казаки постоянно, после залпа, (ружья то однозарядные!) переходя в рукопашную, выдержали двое суток почти непрерывной резни и дождались подмоги. «С нашим атаманом не приходится тужить!»
Дальше поется и про то как
«Жена погорюет – выйдет за другого!
Выйдет за другого да забудет про меня!»
И это из биографии Платова. Он тот самый «другой»! За Платова вышла замуж вдова его близкого друга Павла Фомича Кирсанова. (сына казачьего аристократа Сидора Фомича Кирсанова – Наказного атамана, свалившего всесильного Степана Ефремова, первого тестя Матвея Ивановича Платова! Вот какой интересный клубок отношений и связей!) Марфе Дмитриевне, в девичестве Мартыновой! А вот Мартыновы – самый цвет донских аристократов и, вторые, после Ефремовых, богатеи на Дону! Таким образом, Платов вернулся в круг самых знатных, ведущих родословные с ордынских времен, донцов, да еще стал отчимом Кирсана (Хрисанфа) Павловича Кирсанова – в будущем – командира легендарного Атаманского (его, графа М.И. Платова) полка. Но пока Матвею Ивановичу до графского титула еще как до неба! Благодаря «привенчанному» родству карьера его резко меняется!
Разумеется, донские аристократы не забыли, что Платов – безродный, и он, кстати испытывал к старой аристократии те же, далекие от любви, чувства, (что послужило одной из причин переноса донской казачьей столицы из Старочеркасска в Новочеркасск). Потому в 1792 году, когда донцы бунтовали, не желая переселяться на Линию, его во главе Чугуевского казачьего полка калмыков, отправляют на пресечение волнений в донских станицах,. И он подавляет их с неслыханной жестокостью, перепоров на майданах сотни казаков, не взирая на их возраст и награды, явив свое верноподданство престолу! Но это еще и демонстрация силы перед старой аристократией, не желавшей признавать Платова. Аристократы притихли. Однако, Платов зарвался! За что сразу и поплатился!
Безупречно честный и брезгливый ко всякому мздоимству аристократ и светлая головушка, храбрец из храбрецов и «почтительный сын», А.К Денисов сильно падению Платова поспособствовал. Вин Матвею Ивановичу насчитали много! В частности, многолетнюю задержку жалования тем же чугуевцам, поминок то Платову казачки не несли – плебей, а в деньгах оказывалась большая нужда! Но это, так сказать, формальный повод, а неформальный – ходил в любимцах Екатерины II, стало быть, при Павле I, по дорожке протоптанной бывшим тестем С.Д Ефремовым, отправился в каземат Петропавловской крепости, а оттуда в ссылку в Вятку. Могло быть и хуже! Спасла воинская славушка и государственная нужда в боевых командирах., так что, практически, прямо из русских северных снегов пошел донской атаман в заволжские снега несчастного похода на Индию.
Вернувшись, как тогда говорили, «в случай», Платов использовал его на 200%! В 1805 году он переносит административный центр Войска Донского из Старочеркасска в новостроенный город Новочеркасск.
О перенесении столицы на новое место казаки просили давно. Старочеркасск разросся, все более превращаясь из торгового, портового центра в заштатный городок, постоянно заливаемый наводнениями и паводками. Однако, идея о новой столице донских казаков, воплотилась в жизнь только благодаря энергии и связям М, И. Платова. Собственно, казачий атаман сделал то, что за столетие до него проделал Петр I, чтобы избавиться от давления бояр, перенеся столицу империи из Москвы в новопостроенный Петербург. Тоже совершил и Платов. Так же как и Петр, одной из руководящей его делами, идеей – освобождение от старой казачьей аристократии, чье гнездо (Старый) Черкасск.
Однако, было множество и других причин, которые при беглом взгляде на это событие не особенно заметны. Например, отрыв города от берегов Дона – не просто уход от широкой речной дороги, это переход от господства рыбацкой экономики к земледелию. (Еще Петр, подсекая старинную экономику казачества, запрещал донцам ловить рыбу. Платов переводил хозяйство на «земледельческие рельсы». Отныне Дон живет с «земли и травы» т.е. скотоводство- земледелие, а не «с воды» ) Есть и другие загадки.
Декларируя новую казачью столицу, как место для отдохновения заслуженных воинов, как город усадеб с комфортабельными, по тем временам, домами, утопающими в садах, с внутренними двориками и беломраморными фонтанами в них, Платов строил нечто иное. С точки зрения военной, Новочеркасск представлял собою весьма серьезное укрепление. Причем укрепление нового времени, без крепостных стен, но с одной ведущей в город дорогой, причем, по дамбе и территорией вокруг поселения, которая легко затоплялась и превращалась в непроходимое болото. Эта единственная дорога и все вокруг города хорошо простреливалось, поскольку Новочеркасск на горе. «Построил Платов город на горе, казакам на горе!» – известное на Дону присловье.
Ну, это ведь, необходимо! Угроза набегов на станицы с Кавказа и из Заволжья все еще существовала. Разумеется! Но Новочеркасск изначально был готов к обороне при нападениях со всех сторон! В том числе и со стороны России!
Не прост был «Вихрь – атаман», и при гениальном умении изображать простецкого малого, «косак ля рус», который только что и делает, что «крутит кольцами усы, пьет кизлярку на задумной укушетке», в общем, «мужественный старик» из Левши Н. Лескова, Платов никогда таким не был. При, как теперь говорят, «имидже» человека из народа, что сильно импонировало основной массе казаков, Платов – из новой элиты, смертельно враждовавшей со старой донской аристократией, ненавидевшей ее, но нуждавшейся в ее поддержке или хотя бы признании. Верный пес Империи, «слуга царю, отец солдатам», Родиной то он, по старинному казачьему обычаю, считал только Дон! И строил новый город так, чтобы, случись беда, от имперских войск отмахаться.
Платов – великий артист, человек изощренного не только воинского, но и дворцового ума, который в придворных интригах плавал, как рыба в воде. Будь он другим – не сделал бы одной саблей да верностью присяге, головокружительной карьеры. Будь он другим – не приобрел бы он посмертной славы среди казаков, все помнивших, но многое ему простивших.
Так что же, так его никто и «не раскусил»? Был не меньший интриган, карьерист и военный гений, который понимал Платова и, похоже, терпеть его не мог – М.И. Кутузов. Они, на мой взгляд, как – то похожи – один изображал черноземную простоту, другой – немощность старца, а друг друга видели насквозь! Доказательства? Платов от Кутузова не получил ни одной награды! А кроме итого был один эпизод в знаменитом Бородинском сражении, которое историки стараются обходить молчанием.
При изучении пристальном событий тех дней, бросается в глаза, что легкая кавалерия и казаки проявили себе только в рейде Уварова при обходном маневре французской армии, когда своей вылазкой задержали наступление французов на два часа. Дело, разумеется блистательное, но это все, ничего больше…
Да как же было устоять легкой кавалерии против кирасир? Это разговор отдельный. Эпизод же, о коем мы говорим, очень характерен. Французы в числе 30 тысяч кавалерии намеревались ударом с фланга по оврагу зайти русской армии в тыл. В овраге стояли 6 тысяч казаков под командой Платова. Узнав о готовящейся атаке французской конницы, Кутузов приказал казакам нанести упреждающий удар, то есть выйдя из оврага атаковать самим. Дальше произошло поразительное! Вернувшийся в ставку посланец, в ужасе сообщил ,что и приказа то отдать не смог – Платов – пьяный и все офицеры тоже! Чуть с коней не падают. Атаковать не могут.
О том , что Кутузов, понял суть происшедшего, свидетельствует то, что, скрепя сердце, он оставил это явное воинское преступление атамана без последствий.
Ларчик просто открывается! Французы, выстроившиеся у оврага, видели стоявших в нем казаков, но сколько их не знали. Авиационной разведки тогда не было, хотя французы уже и пользовались с этой целью воздушными шарами – монгольфьерами.
Чтобы атаковать казаков в овраге, они должны были выстроиться колонной, стало бы потерять все преимущества численного превосходства, а свалка в овраге «закупорила» бы его как пробка. Они так и простояли не решаясь атаковать.
А вот если бы казаки выступили, согласно приказу, на равнину, если бы французы увидели – сколько их, кирасиры раздавили бы все казачьих шесть тысяч, как паровой каток лягушку. Казаков бы смела стальная лавина тяжелой кавалерии. Конечно, это заняло бы некоторое время! Конечно, казаки бы, как всегда , «покрыли себя неувядаемой славой». Возможно, пока французы их уничтожали, подтянулись бы какие то резервы и не дали французам выйти русским в тыл… Но Платов посчитал, что лучше, вообще, обойтись без резни. Задачу – то он выполнил – французов в тылы не допустил, а главное, – казаков сберег!