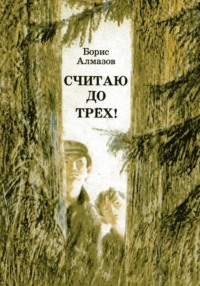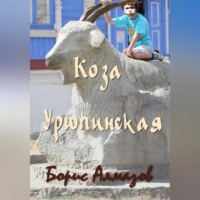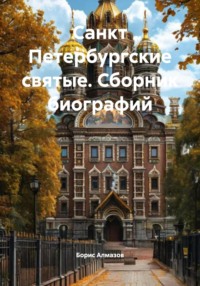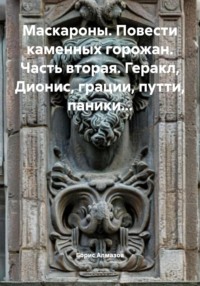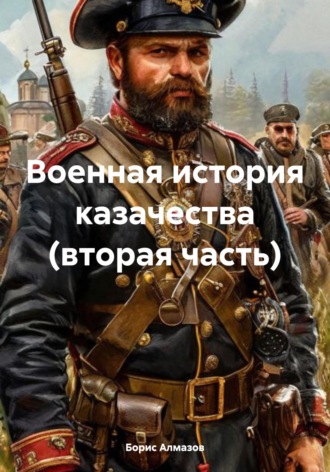
Полная версия
Военная история казачества. Часть вторая
Но с Вяземского сражения пехота русская, шедшая стороною для перегорождения обозам пути впереди, не показывалась на большой дороге, и арьергард Нея опять имел дело только с казаками, «надоедливыми насекомыми», по выражению Сегюра. На своих маленьких лошадках, хорошо подкованных и приученных бегать по снегу, они не покидали отступающую армию».
«В довершение беспорядка нашего отступления, которого одного было довольно, чтобы нас погубить,– говорит Буржуа,– казаки ежеминутно налетали на нас. Как только наши завидят их, так сейчас бросаются в стороны, одни очертя голову, другие в некотором порядке, под прикрытие вооруженных групп, кое-где державшихся. Число бредших отдельно было так велико, что казаки брали далеко не всех, а выбирали своих пленных; они забирали только тех, что казались получше одетыми и обещали какую-нибудь поживу, других же пропускали, будто не замечая…»
Платов совершенно расстроил, почти уничтожил отряд принца Евгения, убил более 1500 и взял в плен 3500 человек, захватил 62 пушки, знамена и множество багажа. Наполеон назвал казаков в одном из своих бюллетеней: «Презренная кавалерия, только шумящая, но неспособная прорвать роту стрелков, сделавшаяся страшною только при данных обстоятельствах». Он не знал или не принимал во внимание, что казацкое войско совсем отлично от регулярной кавалерии, что казаки сражаются только тогда, когда наверное рассчитывают одержать победу,– ему было нужно видеть того казака, который, нарядившись в мундир его «храброго из храбрых» маршала Нея, преспокойно справлял свой казачьи обязанности, чтобы понять, сколько наивной удали в этих «сынах степей».
Констан пресерьезно уверяет, что Неаполитанский король имел большое влияние на «этих варваров», т. в. казаков. Один раз будто бы императору говорили, что они хотят провозгласить Мюрата своим гетманом, Наполеон, посмеясь этому предложению, ответил, что не прочь поддержать избрание. Будто бы Неаполитанский, король своею осанкою и своим богатым театральным костюмом очаровывал казаков и один взмах его огромной сабли обращал в бегство целые орды варваров».
Автор «История наполеоновских войн» рассказывает о том, что, несмотря на свое критическое положение во время отступления, они искренно посмеялись над одним, из налетевших на них казаков, схватившим тюк тонкого полотна и бросившимся с ним наутек: так как он успел схватить кусок за один конец, а французы держались другой и не выпускали из рук, то полотно продолжало все развертываться до тех пор, пока «варвар» не скрылся в лес. В захваченном казаками собственном обозе Наполеона всего больше понравились им и офицерам бутылки с буквами N и императорскою короной – в бутылках было старое Шато-Марго! Интересны захваченные казаками походные кровати Наполеона, находящиеся теперь в Москве, в Оружейной палате: одна побольше, расставлявшаяся в городах и местах более долгих остановок, другая небольшая – для повседневного употребления. Чехлы на кроватях – лилового шелка, снабжены карманами для книг, бумаг и привходящих ночью донесений. После множества павших на казаков обвинений —частью, вероятно, справедливых,– может быть, нелишне будет привести несколько свидетельств самих французов, указывающих на казачье добродушие.
«Наша артиллерия была взята в плен в битве (под Тарутином),– говорит автор «Походного журнала»,– артиллеристы обезоружены и уведены. В тот же вечер захватившие их казаки, празднуя победу и уже изрядно выпившие, вздумали закончить день – радостный для них и горький для нас – национальными танцами, причем, разумеется, выпивка была забыта. Сердца их размягчились, они захотели всех сделать участникам веселья, радости, вспомнили о своих пленных и пригласили их принять участие в веселье. Наши бедные артиллеристы сначала воспользовались этим приглашением только как отдыхом от своей смертельной усталости, но потом, мало-помалу, под впечатлением дружеского общения, присоединились к танцам и приняли искреннее участие в них. Казакам так это понравилось, что они совсем разнежились, и когда обоюдная дружба дошла до высшей точки – французы наши оделись в полную форму, взяли оружие и после самых сердечных рукопожатий, объятий и поцелуев расстались с казаками – их отпустили домой, и таким образом артиллеристы возвратились к своими частям».
Вот еще рассказ пленного солдата морской гвардии: «Пока мы грелись около нескольких березовых полешков, подошел казак, высокий, худой, сухой, до того свирепый видом, что мы невольно попятились. Он подошел к нам по-военному и стал что-то говорить, но мы не понимали: вероятно, он спрашивал о чем-нибудь. В нетерпении на то, что мы ничего не поняли, он сделал знак недовольства, обеспокоивший нас; однако, заметивши это, он в ту же минуту придал своему лицу доброе выражение и, увидев, что одежда моего приятеля была в крови, выказал желание осмотреть его рану и сделал знак следовать за ним.
Он свел нас в ближайшую избушку. Вышла женщина, которой он приказал постлать соломы и согреть воды, а сам ушел, дав понять, что воротится. Она бросила нам немного соломы, но позабыла о воде, а мы не смели слишком настойчиво напоминать ей. Когда он воротился, то прежде всего, спросил жестом: ели ли мы? Мы и отрицательно покачали головами. Вероятно, он потребовал от женщины, чтобы она дала нам поужинать, и за ее отказ крепко стал бранить ее. Тогда она показала к ему чашку с каким-то варевом и, по-видимому, уверяла его, что больше у нее ничего нет. Казак стал шуметь. Даже грозить, но безуспешно: она поставила только греть воду для нас. Он опять ушел и скоро воротился с куском соленого свиного жира, на который мы набросились, несмотря на то, что он был сырой. Пока мы ели, казак смотрел на нас с видимым удовольствием и рукою показывал, чтобы мы не наедались сразу.
Когда мы понасытились, он снова что-то стал говорить женщине, как мы поняли, насчет нашей перевязки. Он требовал от нее тряпок, но та отговаривалась отбивалась со словами: «Нема, нет». Тогда почтенный воин, взявши ее за руку, заставил перерыть все углы избы, но ничего не добыл. Рассерженный таким упрямством, он вынул свою саблю: крестьянка закричала, а мы, тоже подумавши, что он убьет ее, бросились к его ногам. Он улыбнулся нам, как будто хотел сказать: «Вы меня не знаете, я хочу только попугать ее».
Женщина вся дрожала, но все-таки ничего не давала; тогда он снял сюртук, скинул рубашку, разрезал ее саблею на бинты и стал перевязывать наши раны. В продолжение этой работы он все время говорил, вставляя в свою речь много польских и немецких слов; но если это бормотанье было нам мало понятно, то самые поступки хорошо указывали на благородство его чувств. Он старался, кажется, дать нам понять, что знаком с войной уже более 20 лет (ему было около 40), что он был во многих больших битвах и понимает, что после победы нужно уметь быть милостивым к несчастным. Он показал на свои кресты, как бы давая понять, что такие доказательства храбрости налагали на него известные обязанности. Мы только радовались этому великодушию, и он мог, конечно, прочитать на наших лицах выражение нашей благодарности. Я хотел бы ему сказать: товарищ, будь уверен, что твое благодеяние никогда не изгладится из нашей памяти. Только двое здесь свидетелей твоего человеколюбия, потому что эта женщина не оценит его, но скажи нам твое имя, чтобы мы могли передать его и другим нашим товарищам.
Он стоял на коленях, но потом, уставши, сел на пол, посадив меж ног моего товарища, подставившего ему свою раненую спину; он вымыл, вычистил рану плеча с величайшим старанием и, как будто спрашивая моего совета, намеревался, с помощью дрянного ножичка, у него бывшего, вытащить засевшую пулю. Он попробовал открыть края раны, но приятель так вскрикнул, что казак остановился и, упершись в его голову своей головой, видимо стал извиняться за причиненную боль. Я не, утерпел перед таким нежным вниманием и, схвативши его руки, крепко пожал их: собравши в голове все, что знал польских, русских и немецких слов, я хотел было говорить, но не мог – от умиления глаза мои были полны слез!
«Добре, добре, камарад!» – сказал он мне, торопясь окончить перевязку, для которой, кажется, боялся, что не хватит времени. Когда пришел мой черед, добрый казак осмотрел рану и, положивши указательный палец на палец мизинца, показал, что она не более нескольких линий в глубину и что она закроется сама собою, должно быть, удар пики был смягчен одеждой.
Он еще возился с нами, когда один из его товарищей позвал его с улицы: Павловский! – так узнал я его имя – и он ушел, сопровождаемый нашими благословениями. (скорее всего это была не фамилия, а принадлежность к Павловской станице Прим. Б.А.) Мы уж думали, что не увидим более этого бравого казака, но он пришел на другой день, очень рано и осмотрел перевязки наших ран. Он принес нам также по два русских сухаря, выразивши сожаление, что не мог сделать большего…» В.В. Верещагин.
«Ради страха иудейска»
Очерк господина Ю. Давыдова показался мне необходимым в книге о казаках. Несмотря на то, что большая часть анекдотов о Платове и прочей чепухи, никак не относится к истории казачьего народа, показательна точка зрения автора, его уверенность, что он может судить и разбирается в том , о чем не имеет ни малейшего представления. Очерк хорош тем, что он абсолютно типичен не только для узкого около интеллигентного круга российских либерала – демократов, но и вообще для представления современных россиянин о казаках.
Это еще самое начало. Это 1993 год. Но не думаю, что в сознании наших соотечественников с тех пор что – нибудь, в отношении казаков, изменилось. Свидетельством тому, реестровое казачество и принятие законов, которые казачьему народу не нужны, а нужны «ментам», в кого изо всех сил строят, в основном, ряженых казаков, с лентами на кальсонах. Именно для того, чтобы «пороли и карали», чего так, «ради страха иудейска», опасается господин Давыдов.
Забегая чуть вперед, выскажу свое восхищение господином Давыдовым, который никак не может понять, как это врач невропатолог, мог стать казачьим атаманом. Я и в свой адрес слышал: «Как это вы, писатель, и вдруг казачий атаман? Казаков, каких то возрождаете!» Никого бы не удивило, если бы анапский врач- невропатолог был калмыком или армянином и старостой калмыцкой или армянской общины. И я думаю, что решение любого старейшины наказать насильника, у любого народа нашло бы одобрение. Но только, если он не казак! Казакам – нельзя! (Правда, русские, которые сами себя защитить не решаются, все по старой холопской привычке ждут ни то барина, не то Сталина, но единогласно мечтают, что вот придут казаки и спасут Россию!)
Замечу только, что мой прадед, имел чин приказного (одна лычка). Служил срочную в казачьем полку, стал инвалидом, а затем учил казачат грамоте в двухклассной хуторской школе и был атаманом хутора, за что его в 1918 году красные и расстреляли, без суда и следствия. И никакого противоречия в том, что он был по чину приказной или затем младший урядник, атаман и учитель казаки не видели. Тем более , пришедшие на Дон красные. Казак? К стенке! Однако, не будем отвлекаться, почитаем очерк!
Юрий Давыдов. Казаки в Лондоне
Начну не Лондоном, начну Берлином. Вот они, казаки-то, на рысях, на рысях вступают в город. И что же? – Казаки опустошат столицу Фридриха Великого, разграбили в ней до трехсот домов, не пощадили загородного королевского дворца: изломали дорогую мебель, перебили фарфор и зеркала, изорвали, разнесли в клочки кабинет редкостей. Начальники не отставали от подчиненных.
Это не все. Слушайте:
– Дано было приказание прогнать сквозь строй «газетиров» за то, что эти публицисты слишком обидно и дерзко писали о русских.
Таков первый абзац романа «Мирович». У нас он известен любителям исторической прозы. Данилевский, автор романа, жил в прошлом веке. Странные времена! Никто не обвинил Григория Петровича в русофобии. Нет у меня ни малейшего желания порочить казачество. Знавал я в сталинских лагерях и донцов, и ку6анцев, славные были ребята, верные товарищи. Да вот теперь-то услышишь… ну, скажем, про анапских и пригорюнишься. Впрочем, не только про анапских.
Появились казачьи землячества. Возникло движение за возрождение, есть войсковой круг, атаманы, есть кокарды и шашки, есть нагаечки. Однако вопрос, куда громада двинется? К каким светлым горизонтам, ежели злобятся на демократов и инородцев? А розги пускают в ход не фигурально, а буквально. Именно эдак рукодельничают арапское казаки во главе с батькой, хоть тот и врач невропатолог.
Берлинских публицистов решили прогнать сквозь строй. Царский генерал Чернышев отменил экзекуцию. Советский генерал Макашов не отменил бы. А равно и другой бывший кандидат в президенты, г-н Жириновский. Вот и ёжишься: – то-то достанется нам на орехи, ежели, такие типажи прикарманят возрождающееся казачество. Да, натуре робкой впору праздновать труca. A тут еще, черт, помянуть недобрым словом казачьего генерала Иловайского, участника войны Двенадцатого года. Сын тихого Дона оказался буен в погорелой Москве, оставленной французами. Не обошел своим самобытным вниманием православные святыни. Говаривал, не моргнув глазом: я, мол, такой обет дал, чтобы все ценное отправлять на Дон. Hу, зачем, зачем было писать об этом?! Вот и посвистывает в ушах карающая нагаечка. «Страшно, страшно поневоле… » Но не страха ради иудейска берусь рассказать о лондонском фуроре двух донцов. Потому и охота рассказать, что они не имели решительно никакого сходства ни с Иловайским, ни тем паче с анапским невропатологом.
«В 1813 году, в марте месяце, при занятии русскими войсками города Гамбурга, был отправлен морем с этим известием в Лондон казак донского казачьего 9-го полка., Нагайской станицы, (Нагаевской! А.Б) Александр Земленухин лет 60-ти старик, с седой большою бородою».
Так писал в своих мемуарах, долго пребывавших в архивном забвении, подполковник Краснокутский.
В марте месяце да морем… Нетрудно вообразить, каково досталось за десять палубных суток станичнику-кавалеристу от весенних штормов. Но вестник очередной победы русского оружия, союзного английскому, в кровавом одолении Наполеона, достиг устья Темзы.
С того часа, как он ступил на берег, и до того часа, как он покинул этот берег, Земленухина окружали восторженные толпы: «Ура, казак! Ура!» Гравированный портрет статного бородача разошелся в сотнях экземпляров. Земленухина знали и лорды, и трубочисты. На каждом шагу его старались чем-нибудь да одарить. Он просил «не обижать подарками». Объяснял:
– Есть у нас старинный обычай: не обязываться чужеземцам, а лучше самим помогать им в нужде. А коли сам в беде, ищи помощи у своих, а за то старайся отплатить вдвойне. Прошу дать знать всем, что мне денег не надо. Спасибо за ласку, будем жить как братья, и вместе бить общего врага.
Отказ Земленухина приятно удивил островитян. Но когда он и от принца-регента не принял аж тысячу фунтов, удивление сменилось остолбенением. «Ура, казак! Ура!»
Апогея достиг он, демонстрируя на городской площади полевые действия казачьего эскадрона. Подполковник Краснокутский повествует об этом весьма энергично, но, пожалуй, слишком подробно. А если вкратце, то вот, извольте:
– В этот день триста английских всадников ожидали его на большой площади. По сему случаю несколько тысяч любопытных приехало из ближних городов. Толкотня была так велика, что казаку пришлось седлать коня не на улице, а в своей… комнате. Снарядившись, он выехал и сказал английским кавалеристам: "Не учен я наукам, по которым воюют великие генералы. Придерживаюсь нашего обыкновения: хитростью разведывать силу и расположение неприятеля; изнурять его денно-нощно, нападая с тылу, с фланга, а то и в лоб. Главное – натиск, быстрота, чтоб ни минутного промедления. Атаковать лавой, дугой, охватом. И вроссыпь, чтоб людей беречь, дабы и частые, плотные ружейные выстрелы давали промашку». Потом Земленухин велел выслать лазутчиков. Когда они доложили, где неприятель, он сказал:
"Прежде, ребята, помолимся, – скинул шапку, трижды осенился крестным знамением. Надев шапку, крикнул: 'На конь, ребята, без торопливости! Вперед!» – и nycтuл лошадь рысью, а за ним и английские кавалеристы… На скаку крикнул: "Ура, наша взяла!» – и осадив, коня, поздравил всех с победой. Провожали Земленухина как громом: "Виват. Донское войско!»
Имитацией театра военных действий завершилось пребывание станичника в столице заморского королевства. Нет, забыл, надо еще вот о чем. Землянухина, оказывается, приглашали насовсем остаться в Англии. Обещали дать землю, думается, парламент не отказал бы. Говорили, что и жену такой молодец сыщет без труда. Землянухин отказался еще прытче, чем от денег. «Нет и нет! Помирать надо, люди добрые, там, где кости свои положили отцы-прадеды, а старуху свою бросить совесть не велит».
Не пожелав страдать ностальгией, казак 9-го полка уроженец станицы Нагайской, (Нагаевской! Б.А.) взошел на борт фрегата, обещая провожающим передать привет своему атаману, графу Матвею Ивановичу Платову.
* * *
Mатвей Иванович, слушая рапорт Земленухина, курил корешковую трубку и потчевал цимлянским.
Сколь бы стремительны ни были передислокации, а дорожный погребец не оставался в арьергарде, не отставал от Платова. Его сиятельство нередко угощал друга-приятеля, прозванного русскими: «Форвертс», ибо приказ: «Вперед!» чаще всего срывался с губ фельдмаршала Блюхера. Цимлянское, конечно, некрепкое, но берет количеством. Блюхера, случалось, уносили на руках адъютанты. Платов задумчиво покачивал головой:
– Люблю Блюхера, славный, приятный человек, одно в нем плохо: не выдерживает.
В том, что казак Земленухин выдержит, Матвей Иванович не сомневался.
* * *
Весной следующего. 1814 года. был сыгран последний акт войны. Наполеон простился со старой гвардией. Париж капитулировал. Войска встали биваками. Казаки варили кашу на Елисейских полях. Походная униформа сменилась парадной. Батальонные марши – дипломатическими демаршами. Все блестело, все блистали. Победа!
После побед начинается, как известно, мирное обустройство. Не умея обустроить Россию, обустраивают Европу. Писатель Лесков называл это «междоусобными разговорами». Такие разговоры ведутся на высоком уровне. Тон задается – на высочайшем. Император русский отправился по ту сторону Ламанша об руку с королем прусским.
Газета «Тайме» известила: «Эти два великих государя вступили на британский берег в Дувре, и понедельник, в половине седьмого часа пополудни. Пушки военных кораблей выпалили салют в ту минуту, когда государи сошли с корабля, и повторили то же, когда они вступили на берег, причем им отвечал полный залп береговых батарей. И радостные восклицания тысяч британского народа, раздиравшие воздух. Вид был великолепен: матросы все одетые в новые голубые куртки и белые штаны, стоя на реях присоединяли свои громкие искренние приветствия к рукоплесканиям толпы.» Увы, нам придется огорчить «патриотов» суровой правдой истории. К сожалению, самодержца всероссийского сопровождали не только великороссы. Был явный «перебор» шотландцев: фельдмаршал Барклай де Толли и баронет Виллис. И поляков. Аж два Адама – князь Чарторижский и граф Ожаровский. Это бы еще куда ни шло, а то ведь и Карл Несссльроде полу еврей. Можно бы назвать и другие не очень-то благозвучные имена, но и Карлы довольно, чтобы разъярить заединщнков по кличке «памятники». Сдается, самые рьяные из них, еще не учтенные зоологами, измордовали бы атамана Платова. За что, спросите? А за то, что не гнушался полукровки. (Кстати сказать, не возьму в толк. отчего щадят Шолохова. Он же чего себе напозволял? В жилах Григория Мелехова течет басурманство!) Так вот, в свите Александра Первого был и граф Платов. Еще юношей командовал он казачьим полком – времена Очакова и покоренья Крыма. (Это уж под пером сов. историков – «присоединение», а так-то, попросту, как на самом деле было.– покорение.) С тех времен служил да служил и дослужился в боях до генерал-от-кавалерии до атамана Войска Донского. Теперь в громах британского салюта слышался басистый отзвук его, Платова, отмщения Наполеону за нашествие на Россию. Смоленск отбил, маршала Нея побил, Данциг осадой обложил, под Лейпцигом пленил пятнадцать тысяч.
Взгляните на портреты жрецов Марса. Величие, голубеющее, как сталь. Беспощадность, багровеющая, как пожарище. Печать мысли, холодной, как выкладки гениального штаба. А поищите-ка доброту, днем с огнем поищите… Тем неожиданней два-три штриха в дневнике, изданном некогда и Германии. Графиня Фосс, придворная дама, повидала на своем веку фалангу эполетных немцев, австрийцев, русских. Знавала и Платова. Писала: «Он необыкновенно высокий, смуглый, черноволосый человек с бесконечно добрым выражением лица, весьма обаятельный и любезный. Платов вполне достоин уважения, как и все порядочные русские люди.» Другое дело официальные отчеты. Там Платов в числе сопровождающих лиц, а то и вовсе безымянный. На моем столе выдержки из «Таймс» и других лондонских газет. Читаю: «Союзные государи отправились на скачки в Аскот в сопровождении фельдмаршала Блюхера, генерала Платова и многочисленной свиты. Они ехали по Фулгамской дороге. Император был в простом коричневом сюртуке. Король в синем пальто. В Аскот прибыли около часа. Потом приехали королева английская и принцессы, вслед за тем принц-регент со свитой.
На другой день поехали на празднество в дом Берлингтона. Ужин начался в два часа ночи, на нем присутствовало две тысячи пятьсот персон. Император, первым встав из-за стола, подал пример и танцевал до восхода солнца».
Сообщали газеты и об экскурсиях: арсеналы, доки, фабрики, музеи. По слову Лескова, хозяева демонстрировали «разные удивления». Платов вил усы кольцами, бурчал: «И у нас дома свое не хуже есть», на что государь отвечал вполголоса: «Не порть мне политику». Политикой заняты люди политичные. А Платов, как лозу шашкой, подсекал побеги низкопоклонства. Англичане, замечает Лесков, объезжали атамана на кривой. «Особенно в больших собраниях, где Платов не мог вполне по-французски говорить: но он этим и мало интересовался. Потому, что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения».
И верно, воображение женатого человека было занято другим. Лескову, наверное, не попалась на глаза «Старая записная книжка» Петра Вяземского, изданная в 1883 году. Жаль. В лесковском Сказе о Левше, вероятно, прибавилась бы колоритная страница. «Говорили,– писал Вяземский,– что Платов вывез из Лондона молодую англичанку и качестве компаньонки. Кто-то – помнится, Денис Давыдов,– выразил удивление, что он, не зная по-английски, сделал подобный выбор. «Я скажу тебе. братец,– отвечал Платов,– это совсем не для физики, а больше для морали. Она добрейшая душа и девка благонравная; а к тому же такая белая и дородная, что ни дать ни взять ярославская баба».
Не спешите укорять Матвея Ивановича примером земляка-станичника. Да, Земленухин остался верен своей законной старухе. Но Матвей-то Иванович не супругу привез, нет, компаньонку, и, значит, из закона не вышел. А главное, не «чужестранностью ея» пленился, а сходством с русской.
Платов умер четыре года спустя, не дожив до семидесяти. Я не стал доискиваться, что сталось с белотелой дочерью Альбиона. А, пожалуй, мог бы спроворить ходовой нынче товарец по части клубнички. Зависть берет, глядя на повсеместный триумф книженции про любовников Екатерины Второй. Но где ж платовской «ярославской бабе» конкурировать с неутомимой немкой, матерью нашего отечества?
Появилась у атамана и другая «подруга». Не благонравная и не дородная, но о ней минутой позже, а сейчас в контекст его лондонской жизни втиснем очередную цитату из «Тайме».
– Вчера утром император инкогнито вышел из отеля и несколько времени разговаривал на улице с графом Ярмутом. прежде чем народ узнал его. Потом со своим адъютантом и прочими отправился в Гайд-парк. Император был в красном английском мундире, на шляпе большой султан из перьев.
Прошу заметить, шляпа-то с перьями, а народ не сразу узнавал Александра Павловича. Оно и понятно: августейших понаехало сверх комплекта, пойди-ка разберись, кто есть кто. Пожелай Платов остаться инкогнито, потерпел бы фиаско. Его узнавали тотчас, с первого взгляда. И это тоже понятно, он был, так сказать, в единственном экземпляре, ни с кем не спутаешь. Спрашивается, почему же имя его столь редко встречаешь в выписках из «Таймс» и других газет? Вся штука в том. что выписки сделаны в свое время товарищем обер-прокурора святейшего Синода графом Толстым. Юрий Васильевич сосредоточился на особах голубой крови. Это не упрек, а всего лишь констатация. Надо ему и спасибо сказать. Он много занимался в Лондонском королевском архиве. Его перу принадлежит десяток исследований англо-русских связей XVI—XVII столетий. Он и в Девятнадцатое заглянул – опубликовал «Записки сэра Роберта Вильсона».
В грозу Двенадцатого года сэр Роберт состоял при главной квартире Кутузова, а прежде служил в русской армии, живал и в Петербурге. Не сочтите натяжкой предположение о лондонской встрече генерала Вильсона с генералом Платовым, было о чем вспомнить.