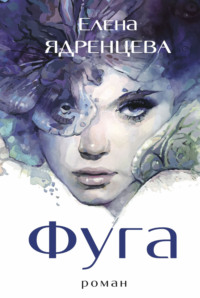Полная версия
Нарушители. Память Каштана: темный замок. Память Гюрзы: светлые сады
– А ты не думал, что, если она будет тебя знать, потом станет ещё больнее?
– Кому, ей? Да она же разочаруется наверняка, и вот тогда, пылая гневом праведным…
– Перестань, – сказала Алиса, – ай, перестань. Налей мне вот чего себе сейчас налил.
– Пойдём, – Гюрза сказал это почти что в полный голос. – Пойдём, я сотворю тебе одежду, какую захочешь.
Наверху замолчали; Гюрза спрыгнул на пол, секунду посидел на корточках и распрямился.
– Колени что? – возмутилась Карина, по-быстрому спускаясь как положено, то есть повисая на руках и дёргая ногами в поисках опоры. – Колени что, железные, ау?
– Да какая разница, – он так рьяно оправил свой второй рукав, что чуть не оторвал ещё одну пуговицу, – ненавижу. Ненавижу, когда они там вместе пьют.
Глава 8
– Ты что, не знаешь, что такое топик?
– Это как верх у русалки?
– Ты думаешь, я ту лахудру прямо разглядела?
Вообще-то да. Вообще-то, конечно, прежде чем спихнуть ту фифу, пахнущую водорослями, со стула, Карина её рассмотрела во всех деталях. Зелёная кофточка, волосы тоже зелёные, тонкие и сухие-пресухие, кое-как стянутые в хвост, и кофточка застёгнута на все пуговицы. Какая-то вязаная, что ли.
– А почему она вообще русалка, раз с ногами?
– А, это обращение. Могут быть ноги, если русалка молчит или мало говорит.
– О, так вот почему она вчера…
– Молчала, когда ты её столкнула? Да, и ещё потому, что удивилась. У нас здесь не пихаются за ужином.
Он прозвучал похоже на своего отца, и Карина фыркнула. Они сидели где-то в глубине двора, в беседке – деревянной, обросшей чем-то с зелёными листьями. Карина всё вот это вьющееся определяла про себя как «виноград», но Гюрза просветил:
– Нет, это хмель. Могу потом принести атлас растений с картинками.
– Это ты сейчас намекнул, что я тупая?
– Нет, – лицо у Гюрзы не дрогнуло, – это я так пошутил. Однако же, Франтишка не лахудра.
– Это что вообще за имя?
– А Карина что за имя?
– Карина по алфавиту, – сказала Карина, – до меня были на «И». И потому что краска для волос.
– Какая краска?..
Легенда гласила, что имени Карины, когда она попала в интернат, никто не знал – тогда многие так попадали – и Слалом нарекла её по краске для волос, которой в тот день как раз и воспользовалась. Чёрные волосы. У Карины тоже чёрные. У Слалом собственные волосы давным-давно седые.
– Неважно, какая краска.
Карина забралась на скамью с ногами и уставилась на тетрадь и карандаш. Тетрадь, конечно, с пожелтевшими листами, в клеёнчатой обложке, и на первых страницах, если просмотреть, какие-то строительные планы, чертежи, пунктиры…
– Рисуй свой топик, – повторил Гюрза. – Неважно, можно схематично, я пойму.
– И джинсы можно?
– Да, и джинсы можно.
– И босоножки?
– Да, и босоножки.
– А помаду ты сможешь?
– У Алисы одолжи, – Гюрза скривился. – Нет, правда, тут был где-то целый комод.
– А если я свою хочу?
– Да консистенция, не знаю, – он нахмурился, – не уверен, что верно получится.
Карина рисовала – и вспоминала ворох объяснительных для Слалом. Та бы сейчас сказала: «Лапшевич, ну ты совесть-то имей». И вот назло ей Карина и воспроизводила, как могла, по клеточкам, топики, которые только в журналах и видела, и туфли на платформе, и ошейник…
– Это зачем тебе?
– Для красоты.
– Ты же осознаёшь, что не в плену?
– Да все так носят!
– У нас никто не носит.
– Значит, будут!
– Хм.
Карина сперва хотела самый простой ошейник – чёрный, строгий, может, с такой серебряной каплей посредине, – но после «хм» добавила шипы. Если Ференц не соврал, если Гюрза сейчас и правда откуда-то достанет вещи – да можно не сразу сейчас, можно хоть через неделю, – то Карина вся будет местная, с потрохами. Отмоет все окна в крепости.
Гюрза сидел рядом, то смотрел на хмель, то постукивал по столу карандашом.
– Да сейчас, – огрызнулась Карина, – вот сейчас уже! У вас журналов нет, как мне всё вспомнить?
– Мы же как-то помним.
– Тьфу ты!
Когда она всё-таки сунула ему изрисованный лист, он велел:
– Отвернись.
Она послушно отвернулась и зажмурилась. Если он убежит и потом будет всем показывать её мечты…
– Считай до ста, – сказал он. – Я не издеваюсь.
Карина досчитала до семидесяти. Потом открыла глаза – и увидела, как Гюрза вертит в руках и, хмурясь, рассматривает вот тот самый чёрный топик, какой она хотела. Только лямки слишком тонкие, но нельзя же сразу всё…
– Пойдёт? – спросил Гюрза, протягивая топик. Помедлил, отряхнул от вездесущей белой строительной пыли, снова протянул. – Такой подходит? Я просто, знаешь ли, не очень в этих материальных…
– Ты что, – сказала Карина, – больной? Конечно, подходит.
– А, это вместо «спасибо, Гюрза»? Тогда держи ещё.
И он протянул ещё – целую стопку. Тут были шорты, и короткая юбка, и длинная юбка, на случай, если придёт охота поизображать принцессу, и на скамейке – Карина вдруг увидела – стояли босоножки.
– Пойдёт платформа или надо выше?
– Ты ненормальный, – сказала Карина, на всякий случай прижимая шмотки покрепче к себе, и вылезая из-за столика, и делая шаг назад. – Что… сколько я тебе должна? Откуда ты взял это?
– Ты что, не слышала? – Он тоже встал. – Сотворил. Отец одежду тебе обещал. Ничего ты не должна.
– Это вы все так можете?
– Нет, только некоторые, – он нахмурился и пощёлкал пальцами. – Не отвлекай. И не смотри, пожалуйста, так, будто я могу всё это отобрать.
– А вдруг ты их обратно сотворишь?
– Развоплощу? Нет.
– Точно?
– Точно.
– Пообещаешь?
Гюрза уставился на неё в упор, и Карина попятилась ещё.
– Иди, – сказал он, – переоденься, наконец. Я всё равно не буду плевать на ладонь и жать тебе руку, это только отец так делает.
На самой верхушке стопки вдруг соткался – из воздуха – ошейник с шипами.

Потом она думала: лучше бы пошла другой дорогой. Лучше бы, переодевшись в спальне, пошла бы пробовать босоножки в коридорах, или кривляться в старые зеркала, или смотреть на всех подряд – разинут рот, заметят, что она за красотка, или мимо пройдут? Ох, вот бы Катька удивилась!
Но мысль о Катьке стала роковой. Именно эту мысль Карина несла к Ференцу, а Ференц был неизвестно где, а сам ведь обещал, что у неё получится всех навестить. Когда угодно. Почему бы не сегодня?
Искала Ференца, а натолкнулась на Семёна. Тот застыл у стены, держал на ладони голубое стёклышко. Карина подошла.
– Ты не знаешь, где Ференц?
– Что ты говоришь?
Наверное, он опять питался впечатлениями – сперва глядел на это самое стекло, а теперь на саму Карину, аж рот приоткрыл. Чёлка ко лбу прилипла – это как можно, уже будучи без тела, всё равно выглядеть как дурак? А все с ним носятся…
– Карина, – он спрашивал очень серьёзно, очень старательно, как будто в её имени можно было ошибиться, как в какой-то формуле. – Карина, а зачем тебе шипы?
– Да нравятся, и всё тут. – Будет она ещё ему тут расписывать. – Где Ференц, говорю?
– Ой, я не знаю. Хочешь, поищем вместе?
– Нет, – сказала Карина и повернулась, чтобы идти дальше, потому что со слабаками не любила зависать. Что общего может быть у девчонки в новых босоножках и какой-то мелочи в отглаженной рубашке? И ещё он сегодня был в подтяжках.
– А я хочу с тобой.
– Ну и хоти себе.
Она не повернулась, но он всхлипнул – это пацан-то! – и вот тогда она и шлёпнула его по руке, снизу. Стёклышко поскакало по камням, упало в щель у стенки и исчезло.
– Мы же теперь не достанем! – Семён опустился на колени, прозрачными руками зашарил по чёрному полу. – Зачем ты? Для чего ты? Ты его себе хотела?
– Да ничего я не хотела. – Надо же, что выдумал. – Я просто так ударила.
– Зачем?
Вот заладил: зачем, зачем. Хотела сказать «потому что ты бесил», но плечи у него дрожали, и он никак не мог достать стекло из щели меж двумя булыжниками, так что пришлось огрызнуться:
– Ловить надо было!
– Но я не мог бы поймать, я же три дня учился, чтобы только удержать…
А, точно же, он призрак, он проблемный. Вот стоило умирать, чтобы так блеять?
Карина села на корточки:
– Убери руки, я сама найду.
– Ты, – сказал мальчик-призрак, – ты плохая.
– Ой да ну что ты говоришь! Руки убрал быстро.
Стекло застряло ниже, чем Карина могла бы дотянуться; как дотуда достать? Карандашом?
– Да не реви ты!
– Сама не реви.
– Я и не реву!
Она всё-таки легла на пол и просунула, свесила в щель правую руку, насколько смогла, – клятое стёклышко скользнуло ещё ниже. Свободной рукой врезала по полу, просто от злости, и пол задрожал. Или ей казалось так?
Удар, удар, удар. Волосы в пыли. Стекло поди ещё нашарь, вслепую-то, и шмотки новые изгваздала теперь…
– Ага, – сказали сверху. – Ну и ну. Нет уж, вставай теперь, Карина-свет.
Она чихнула. Там, наверху, в мире нормальных, ничего не испортивших людей, стоял Ференц и обнимал Семёна.
Ждал её.
Глава 9
– Ну, – сказала Карина, – сразу отнимете или сначала отчитаете?
– Что отниму?
– Одежду. Ваш сын для меня это… сотворил.
Почему-то обидно было стоять перед ним вот так – с пыльными волосами, с налипшей паутиной, с распухшей от пропихивания в щель правой рукой. И стекло так и не нашла. На что годишься?
– А, – сказал Ференц, – ты в этом смысле, ну конечно же. Око за око. Нет уж, Карина-свет, никто у тебя ничего не заберёт.
– Как так?
– Вот так. Постой немножко, я договорю.
– А объяснительные я пишу тоже дурацкие!
Он не ответил. Кивнул Семёну, опустился на колени у той же трещины, погладил пол. Покачал головой.
– Боюсь, оно исчезло безвозвратно, – сказал. Как будто ему правда было важно. Как будто ничего грустнее с ним в жизни не происходило. Да ну стёклышко и стёклышко! – Я сделаю другое, но не сразу. Прости, пожалуйста. Ты очень хорошо его держал, кто ж знал, что так получится.
– Я не… – Семён сморгнул, помотал головой. – Я не держу зла.
– Да ну? А мог бы и держать, я бы вот злился. Пойдём, Карина, что-то покажу.
– И вы не будете… ну… чтоб я извинилась?
– А толку. – Ференц протянул ей руку, и пришлось взять, как маленькой. Ладонь у него была тёплая, сухая, в мелких царапинах, – очень надёжная ладонь.
– Вы меня собираетесь сейчас отсюда вышвырнуть?
– Собираюсь, – Ференц кивнул, – часа на два-три.
– Маленьких надо уважать?
– Ты перепутала. Маленьких глупо обижать. Хотя Семён не то чтобы очень маленький.
– Почему глупо?
– Подрался с равным – заработал репутацию. С тем, кто слабее…
– Да я даже не дралась!
– Посмотрел бы, как ты дерёшься с призраком.
– Да он бесит, вообще-то!
– Угу, – Ференц кивнул опять, не глядя на неё. – Ты тоже кого-то бесишь. Давайте все друг у друга станем отбирать любимые вещи.
– Да я не знала, что оно… что навсегда, ну!
– Он так гордился, что может удерживать.
– Да я пыталась всё исправить!
– Да, я заметил. Почему ты вообще к нему полезла?
Ференц держал за левую руку – нераспухшую – и вёл куда-то коридорами. Те, тёмные, не кончались. Бесило, что здесь она не знает каждый поворот – вот тут короткий путь, вот тут на задний двор, и в смену Марии Васильевны можно по два раза подходить за запеканкой.
– А куда мы идём?
– Луг ста цветов.
– А что на этом лугу?
– Да как тебе сказать.
Они шли всё быстрее и быстрее, и голова у Карины кружилась и кружилась. Рука ныла, конечно, но в интернате она бы уже о ней и думать забыла. Как тупо вышло, как обидно это вышло. Там погорела на том же самом, теперь здесь опять…
– У вас разве есть время тут со мной ходить?
– Как видишь, есть, раз иду.
– Хотите, скажу «больше так не буду»?
– Выбивать стёкла из рук? Разумеется, не будешь. Вообще довольно инфантильно – каяться, чуть что.
– Инфанти-что?
– Говорю, перестань извиняться, не поможет. От тебя что, на прежнем месте только этого и хотели?
Ну в целом да – и объяснительных ещё. Пришлось замолкнуть. Если этого так бесит…
– У тебя есть моральный кодекс? Как звучит?
Моральное чего?.. Обычно взрослые начинали так расспрашивать, когда пили на День педагога или всё на том же празднике. У тебя есть мечта? Кем будешь, когда вырастешь?
Карина так увлеклась, мысленно передразнивая все эти вопросы, что сначала зажмурилась, а уж потом поняла – они и впрямь вышли на луг.
Во дворе воздух был не жаркий – тёплый, и ноги быстро пачкались в пыли, даже и в обуви. Здесь никакой пыли в помине не было, зато были ромашки и одуванчики, лютики, и россыпи белой пастушьей сумки, и клевера столько…
– Садись, – сказал Ференц и плюхнулся прямо в заросли травы, – садись, несчастное дитя, и дай мне руку.
– Я не несчастная.
– Садись давай уже.
– Вы сказали, что я несчастная, а я нормальная.
Ференц покачал головой. Воздух подрагивал – и от жужжания шмелей, и от жары, и от запахов – медового, и травяного, и полынного. Клевер тут рос и розовый, и белый, целые поля. Карина села за пару шагов от Ференца.
– Клевер, вообще-то, сладкий, знаете?
– Ну разумеется! – Он сорвал розовый цветок и положил в рот.
Шмели жужжали. Кто-то трещал в ивовых кустах рядом – то ли сверчок, то ли трясогузка. Не то чтобы Карина знала хоть одну птицу не из городского парка.
Ференц молчал, жевал. Рука болела, но не сильно. Всё-таки выгонят? Обратно или дальше? Как она объяснит, где проболталась сутки, и где её платье, и почему она в таком…

– Скажи, – попросил Ференц, пока по тыльной стороне его ладони медленно полз шмель, – скажи-ка. Ты дерёшься, чтобы что?
– Я не дралась с ним!
– Да, мы уже выяснили. Ты обижаешь младших, чтобы что?
– Я не…
– Что? Не обидела?
Нет уж, тут Ференц был прав. Тот же Антон, если б Карина попыталась отобрать его, например, мяч, заорал бы: «Ну ты дура, что ли!» – а если бы мяч пропал, то ещё и врезал бы. Ну, может быть, врезал, если бы снова позабыл, что Карина девчонка. То есть даже Антон обиделся бы, а уж этот плакса…
Она сняла ошейник, кинула Ференцу на колени:
– Забирайте.
Ференц покрутил ошейник в руках – растянул, отпустил, подёргал за шипы.
– Это Гюрза тебе сделал?
– Ну а кто ещё?
– Надо же, какой молодец. Я-то, признаться… Да, а зачем ты мне его кинула? Похвастаться?
Он дурак или издевается?
– Вы сказали, что никто ничего не заберёт, но так не может быть, потому что я вас расстроила или разозлила, и это значит…
– А почему расстроила?
– Потому что обидела вашего плаксу.
– Кого, не слышу?
– Вашего любимца.
– Мне показалось, ты сперва сказала «плаксу». Забирай. Никто не будет отнимать твои сокровища, даже если ты вдруг отобрала чьи-то чужие. Это не так делается.
– Вы меня вышвырнете?
– Уже вышвырнул, смотри. Сидишь и смотришь на цветы.
– Так не бывает.
– Смотри-ка: клевер, лютики, кипрей… Кого же из них не бывает? Или нас с тобой?
Клевер и лютики. Она вскочила и пнула розовый клевер, и белый тоже, не просто наступила, а вбила в землю, растрепала и втоптала, размазала в кашицу, и руку жгло ещё – потому что нельзя карать цветами! Ференц мог в комнате запереть, мог отнять вещи, лишить обеда, смену длинную назначить – а он привёл смотреть цветочки! Как так можно?..
Глаза жгло, и горло будто бы пытались натереть на тёрке.
– Ненавижу вас.
– Что-то ты быстро перешла к этому выводу. Прибереги до финала. Дай руку, пожалуйста.
– Отстаньте от моей руки! И я нормальная, я вам не эти все, и я не буду!
Чего она не будет, не успела сказать, потому что глаза намокли, вот же гадость, да никогда они не мокли, даже когда она ещё не была сама по себе сила, даже когда втолкнули в мужской туалет, даже когда…
Ференц фыркнул – не фыркнул даже: громко выдохнул через нос, – но Карина-то чуяла, что он смеётся, и так и сказала:
– Что, если вещи у вас тут какие хочешь, то и смеяться можно, да?
– Просто ты говорила – Семён плакса, а сама даже руку дать боишься.
– Да я не боюсь!
– А зачем ты терпишь боль?
– Потому что, – Карина даже придержала раненую руку другой рукой, как будто та, первая, могла бы потянуться к Ференцу сама по себе, – я не слабак, чтобы на каждую царапину…
– У вас у всех там такие понятия? Дай руку, говорю, больно не сделаю.
– Я не хочу.
– А я хочу. Давай, не трать же время.
– Что вам за дело до моей руки вообще?
– Не люблю лишнюю боль, – он поделился, как будто сам только сейчас всё это понимал, как будто бы они курили за проходной. – Она бывает неизбежная, необходимая, но эту мелочь-то зачем терпеть? Как муха над ухом жужжит. Дай уберу.
– А если я себе нос разобью, вы что почувствуете?
– Как интересно, – он всё-таки дотронулся и до костяшек рассечённых, и до распухшей почему-то до сих пор ладони – кончиками пальцев. Щекотно, стыдно. – А если ты нарочно себе разобьёшь нос, я Гюрзу попрошу тебя лечить – и развлекайтесь как хотите.
– Вот спасибо.
Руку он как-то – ну, загладил? Зашептал? Она стала нормальная, не розовая, тонкая снова, и ранки затянулись – даже те, что старые, и не болело больше. А всего-то он пальцами поводил туда-сюда на этом лугу.
– Ты умирала, Карин?
– Если только когда маленькая.
– Нет, насовсем? А Семён умер, и это помнит – так, тебе для сведения.
– А вы мне руку лечите.
– А чем твоя рука ему бы помогла? И твой ошейник мне зачем? Вот если ты стекло поможешь обточить – ещё куда ни шло, а так – смотри на цветы.
– Чтобы плакать и позор?
– Позор – твои учителя. Вот кто внушил, что от помощи нужно шарахаться, те и позор.
– Нормальные они там. Вы бы сами с нами…
– У меня в подчинении драконы, и русалки, и взрослые призраки, и минотавры, например. Почему-то ни на кого из них я не срываюсь.
– Да вы бы видели…
– Смотри, вон там ещё цикорий есть.
Глава 10
От запахов кружилась голова – от запахов, от исцеления руки, от Ференца, который снова говорил «бедная девочка», от сот, которые он сотворил. Тупо из воздуха!
– А вы научите?
– Не всем это дано.
– Что, вы считаете, я отсталая?
– Только ты таковой себя считаешь.
– Ещё Гюрза!
– Гюрза пока к тебе присматривается, а если напускает важный вид, так ты ведь тоже, просто на свой лад.
– А как понять, могу я делать штуки или нет?
– Делать штуки… Время покажет, подожди пока немного.
– Это я в вашем замке буду самой скучной?
– М-м-м, – сказал Ференц, потому что жевал воск, – м-м-м, только не скучной. Да ты попробуй, до реки дойдём – умоешься.
Соты текли – вкуснее мармелада, слаще долгого утреннего сна, слаще каникул. Мёд искрился на солнце. Ференц отломил кусок сот и кусок хлеба – мягкого, пухового – и протянул Карине.
– Что, мёда никогда не видела?
Тот, который Карина ела в интернате, напоминал усталый мокрый сахар или, наоборот, подсолнечное масло: или слишком густой, или какой-то уж совсем бесстыдно жидкий. Здесь мёд как будто сам по себе порождал лето.
– Кусаешь соты. До реки дойдём – умоешься.
– Вы всегда по два раза повторяете?
– Привычка.
Он растянулся на траве, и ни один дурацкий муравей не заполз ему под рубашку; даже шмели не трогали их соты, их мёд. Вот бы Катьку сюда. Вот бы их всех.
– Я к вам чего шла.
– А?
– Я хотела навестить. Вы говорили: сможешь навестить, когда захочешь.
– Да, а ещё я должен тебе пудинг, Гюрза обмолвился. Когда захочешь, но не на следующий же день. Дорога ещё не просохла, погоди немного.
– А вы научите меня сотворять соты?
Какая дорога?.. Почему она просохла? Почему за историю с Семёном и стеклом ей не вломили, а вот – дарят мёд и клевер? Иногда проще ничего не выяснять, а спрашивать о текущем, о заметном; пусть остальное остаётся на обочине, остаётся у берегов, ну а саму Карину понесёт река – дальше и дальше, всё страннее и страннее.
Что он сейчас скажет? Что соты сотворять умеет только он? Что классные вещи вообще умеют делать только он и его сын, а остальные им за это подчиняются? За помаду. В интернате он стал бы королём всего – за помаду и за футбольные мячи…
– Да это скучно, – сказал Ференц, – было бы чему учить.
– Скучно?..
Он что, дурак? Скучно сотворять шмотки, и еду, и чёрт знает что ещё?
– Вы когда-нибудь жили в общей спальне?
– Ну, положим, не жил.
– И клетку небось не носили одинаковую.
– Полосочку носил.
– Вы сейчас шутите?
– Да не сказал бы.
Он первым встал, и вытер руки о траву, и двинулся к реке. Невозможно сердиться, когда никто не делает взрослое лицо, не тыкает «я тебя старше, значит, уважай меня». Как у него так получается – казаться своим? Это нарочно?.. Зачем?
Трава, и клевер, и одуванчики, и ромашки были мягкими; к измазанным ладоням липли лепестки и мошки. Карина спустилась к реке – за Ференцем вслед, по глиняным ступенькам, на песчаную отмель. Вода была прозрачная и холодная, и висела над ней зелёная стрекоза.
– Славно, что речка нынче показалась, – сказал Ференц как будто сам себе, и Карина ответила «угу», потому что считала пятна. Яркие которые.
Кровь – раз; когда цветёт что-нибудь в мае – это два, те же одуванчики вечно на весь двор, кросс не пробежишь.
– Держи, – Ференц протягивал ей початок кукурузы, как будто достал прямо из реки. Он умылся, и волосы у лица теперь были мокрые – так он стал ещё сильнее похож на Гюрзу.
Кукуруза уже лоснилась от масла, и блестели на солнце крупинки крупной соли – как водяные капельки.
– Подумал, тебе нужно что-то жёлтое.
– Зачем тогда руки мыли?
– А что, вода посчитанная?
Ну как сказать. Когда она идёт из крана, когда не идёт. Взяла початок, потому что, если не брать подарки, люди потом больше не дарят ничего.
– А что ты в чёрное оделась? Так привыкла к клеточкам?
Можно сидеть на песке, и вгрызаться в кукурузу, и щуриться на воду, и думать, что все эти вопросы – не тебе, не тебе. Да и весь день не твой – украденный у кого-то, кто счастливый, кто никогда не выбил бы дурацкое стекло, кто носит яркое.
– Ну не жёлтое же носить, – сказала вслух, – чёрное круче.
– А я думал, ты под вампира одеваешься. Нет?
Карина промолчала. Прилично ли при хозяине замка – хозяине луга – ковырять в зубах?
– Тогда помада нужна голубая или рыжая. Что-то в противовес.
– Гюрза только красную сотворил.
– А, это его любимая. Что сказать – всем нам есть куда расти.
Они валялись на траве, как будто день был первым днём каникул – и единственным.
– Вы сказали… Я вас подслушала с Алисой, и вы сказали, что я вас возненавижу.
– Да кто его знает, как оно там повернётся.
Как это кто знает, если вы и должны знать? Карина взглянула на Ференца – он валялся на траве, заложив руки за голову, – и в первый раз поняла: он не ответит. Потом она научится это предчувствовать, ещё не завершив вопроса – скрытого или явного.
По небу, над лесом, летела белая птица – ну такая белая, что солнце отражалось от перьев, слепило глаза.
– Ты подумай, – пробормотал Ференц и приподнялся на локтях, – нет, ты подумай. Как я коршунов убрать – так это обязательно, а сами…
– Что?..
– Фу, жирная избалованная птица. Лети сюда! Получишь кукурузы, если мы её ещё не съели.
Жирная птица к ним и правда снизошла и оказалась голубем – самым белым, какого Карина в жизни видела. Потянулась погладить – тот распушил хвост, заурчал. Или у голубей это как-то иначе называется?
– Вон на хвосте пятно, ну ничего не могут сделать хорошо. Должен быть чистый белый, а у них что?
Сказал – и бросил голубю горсть зёрнышек. То есть натурально зерён, жёлто-золотых, как на картинке в букваре. Пшеница. Колос.
– И вы считаете, что вот это всё не круто? Любая еда?
– Я считаю, что светлые нарушают договор. Или ты сам улетел, жертва перекорма? Или ты нёс письмо и потерял его?
Голубь вышагивал, тянул шею, соглашался.
* * *Только из-за всего этого – из-за голубя, который оказался очень лёгким, из-за мёда, из-за реки, из-за черешни – она почему-то тоже была жёлтой, и Карина плевалась косточками, и Ференц тоже, а потом Ференц приманил их, косточек, целую стайку, и те выстроились в воздухе в спираль, в звезду с хвостом, потом вспыхнули пеплом и исчезли; так вот – только лишь из-за ощущения, что она всю ночь болтала с Катькой где-то на подоконнике за шторой или они отдраили класс и теперь можно валяться на партах, свесив руки, пока кто-нибудь не придёт и не разгонит, – только из-за этой лёгкости она не распознала засаду сразу, когда увидела Гюрзу в своей же комнате.