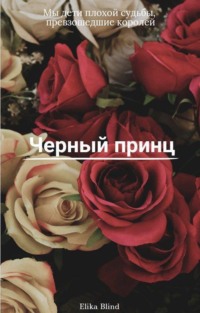Полная версия
Ген Z. Без обязательств
На экране появился российский флаг, затем разные части Кремля, Спасская башня.
– Уважаемые граждане России! – проникновенно начал президент. – Дорогие друзья! Совсем скоро наступит 2020 год…
Катя взяла с подноса официанта шампанское, проигнорировав Сашу, пробиравшегося к ней с двумя бокалами. Вот уже двадцать лет или больше человек, вещавший с экрана, находился у власти. Подумать только, это вся ее жизнь! А сколько в ней всего было? Это много или мало? Да и можно ли опыт измерять годами? Сергей Анатольевич часто говорил, что она еще ребенок, и тем не менее было и в ее жизни то, что родители никогда не чувствовали, никогда не знали.
Двадцать лет, а весной уже двадцать один! Каким далеким казалось ей детство, какой взрослой она была теперь, а дальше хуже – будут набегать лишь годы, а жизнь, изменится ли она? Сейчас, когда человек с экрана говорил о неких мечтах, о каком-то будущем страны, что представлялось ей слишком необъятным для понимания, Катя думала только о себе и о бесполезности 90% человечества, которые рождаются, живут, умирают и все по одной и той же кальке: влюбленность – брак – дети, а остальное второстепенно, просто чтобы нервы пощекотать. Какой в этой в этой беготне смысл?
Официант разносил бумажки, карандаши и зажигалки. Гостям предложили новые бокалы. Приближался бой курантов.
Катя просыпалась по утрам, будто отсчитывая время до истечения четырех лет, на которые сама себя обрекла, и пыталась понять, что там будет, после этих лет? Работа. Зачем? Чтобы кормиться. Зачем? Чтобы жить.Зачем?
Пробили и затихли куранты. Пепел пожеланий тех из гостей, кому еще было что желать, вместе с шампанским оказался в желудках. Все вышли во двор. Сергей Анатольевич зачитал свою поздравительную речь, и в 0:05 во дворе начался салют.
Сейчас, как никогда прежде, Катя чувствовала близость времени и его сокрушительную быстротечность. Двадцать лет! Это ведь весна жизни! Разве весной человек может быть несчастен? Кате говорили, что все еще у нее будет, что все впереди, но если весной были заморозки, то разве летом будет урожай?
Она была молода и чувствовала, что должна быть счастлива. Также думали и обступившие ее люди, утратившие юношество среди талонов и карточек Советского союза, но приобретшие там же стойкое предубеждение против всего «общественного», которое в их сознании сливалось с чем-то низкопробным, недостойным их детей. «Пусть я жил так, но мои дети так жить не будут!» – провозглашали они каждым своим душевным порывом. Но в достатке и довольствии Катя не находила утешения обуревавшей ее тоске.
Снова прошел официант, разнося на подносе красиво уложенный бенгальский огонь. Катя бездумно потянулась к подносу, комкая пустую бумажку в руке. Ничего ей не хотелось, ни-че-го!
– Катя! – София протянула зажженный бенгальский огонек, и Катина палочка вспыхнула миниатюрными звездами.
Кожухова улыбнулась, и в ее теплых глазах отразился водянистый свет искр. К ним подошел Сергей Анатольевич и, поздравив девушек с Новым годом, зажег от их огня свою бенгальскую свечу. Вместе с ней вспыхнуло и его сердце, искавшее и видевшее в них отражение будущего, продолжение самого себя. В это мгновение, отделявшее будущее от прошлого, он чувствовал себя очень старым, хотя ему не было и пятидесяти лет. Груз прожитых лет давил на его плечи, но Сергей Анатольевич не сгибался, видя, что все было совсем не зря. Во взгляде, которым он смотрел на дочь, было много ностальгии и много любви.
Катя улыбнулась и ему. Зимняя ночь растрогала ее и вселила в сердце непомерную грусть – так каждый праздник, знаменующий собой течение времени, заставляет задуматься о том, что осталось позади, и неизменно вызывает больше сожаления, чем радости.
Отгремели фейерверки, догорели бенгальские огни. Те из гостей, что замерзли, стали спешно удаляться в дом, другие разбрелись по участку, рассматривая причудливую геометрию модерна, наложенную на ландшафт, но все собирались встретиться за праздничным столом через десять минут.
Катя попросила горничную спустить ее соболиный полушубок и предупредить Сергея Анатольевича, что она придет к столу позже, чтобы ее не ждали. Ей хотелось побыть одной.
Катя уже почти дошла до своей любимой лавочки в углу между туями, отгораживавшими банный домик, когда заигравшая в доме музыка также резко, как салют, разорвала обступившую ее тьму и вступила в борьбу с тишиной, от чего Катя чувствовала себя все равно что на глубине, куда пробиваются съеденные плотностью воды объемные неясные звуки. Эта неопределенность, которую придавало музыке расстояние, мучила ее, и она торопилась уйти дальше в сад, но нигде не находила тишины достаточно глубокой и массивной, чтобы оградить ее от собравшихся в доме людей.
Кутаясь в меховой полушубок, она сидела на скамейке в отдаленной части сада и смотрела на туфли. Сколько бы Сергей Анатольевич ни носился с генераторами в предыдущие дни, даже такой снег все равно таял. Под ногами было месиво, стразы на каблуках помутнели, носки слегка запачкались. Это была самая теплая зима из всех, что Катя провела в Москве. Ноги, если и мерзли, то совсем немного, и не было в холоде ничего настолько невыносимого, чтобы возвращаться к гостям. Среди этих людей Катя ощущала себя, как Прометей в логове Медузы: повсюду были окаменевшие фигуры, глухие к словам и мольбам, жившие в выдуманном мире софитов, бриллиантов и долларов. Но Катя не обманывала себя – она была частью этого логова. Докапываясь до своего сердца, ища рану, давившую ей на грудь, Катя вдруг обнаружила, что ее сердце черство и пусто, и давила вовсе не рана, а тяжелый камень, в который оно обратилось. Не знавшее привязанностей, остававшееся равнодушно-холодным, не склонное ни к сочувствию, ни к эмпатии, оно работало, как мотор, как нечто, собранное из гаек и винтов и не имевшее ничего общего с жизнью ума и фантазии. Оно ничего не хотело, это сердце. Оно не билось.
Жизнь, бывшая лишь сменой привязанностей и ничем больше, обходила ее стороной.
Глава 3. Стаут и пицца
Дима сидел в одиночестве уже полчаса. Ему сильно дуло, и за десять минут, что он сидел спиной к двери на террасу, он промерз до того, что со злость плюхнулся на диван, пообещав себе, что Петя, любитель опаздывать, будет сидеть теперь исключительно на стуле, и ему совершенно все равно, что этот старый пень на следующий день будет ныть, что застудил свои грыжи.
Он сидел в небольшом пивном баре на крыше торгового центра на Лубянской площади. Все столики были заняты, и многие гости заведения стояли, однако все равно выглядели веселыми и довольными. От набившейся толпы было душно, из-за тяжелой, ежеминутно дергаемой туда-сюда двери на террасу сквозило. Димин столик стоял у этой самой двери, поэтому он накинул на себя шарф, чтобы не застудить горло, и пригубил второй стакан стаута.
Пиво почти кончилось, когда кто-то из компании напротив потянул за собой его стул.
– Эй! – окликнул Дима. – Стул оставь! Ща мой друг придет.
– Прости, братиш, – мужик поднял руки, извиняясь, и вернул стул на место.
Оба его стакана уже унесли, когда Петя все-таки явился.
– Твою мать, Терехов! – воскликнул Дима, подрываясь с дивана. – Сколько ждать тебя можно?
– Минус приставка, – по старой привычке отозвался Петя, крепко обнимая его.
– Ни слова матерного не сказал. Садись сюда, – Дима встал и, протиснувшись между столиками, пропустил друга на диван. – На стуле спину застудишь.
– Сколько мне, по-твоему, лет?
– Я почти уверен, что ты застал первое поколение ЭВМ.
Петя засмеялся. Дима сходил еще за пивом и, набросив на плечи куртку, откинулся на спинку стула. Дуло неприятно. С каждым щелчком ручки его правый бок обдувало холодом, и, хотя это была самая теплая зима в Москве на его памяти, было все равно неприятно.
– Че опоздал-то?
Петя закатил глаза и многозначительно ответил:
– Алена.
Пете без шуток было уже тридцать два года. Дима почему-то думал, что это почти сорок. Терехов на свою голову встречался два года с девчонкой из отдела кадров с прошлой работы. Она как-то так быстро взяла его в оборот, что они съехались чуть ли не сразу, а затем она начала менять все его привычки от КС по вечерам до пьянок с друзьями – все это было теперь строго регламентировано ее интересами. Кошмарная пора. Тот самый «друг на все времена», с которым можно было и на байках покататься, и на рыбалку съездить, стал теперь домашним песиком и поводок протягивался за ним через всю Москву.
– Че она хотела?
– Чтобы я пошел с ней на новый год к ее подружке.
– Разве ты не говорил, что вы все обсудили?
Петя вздохнул. Объяснять Диме, такому рационально мыслящему и почти ничего не чувствующему, какого это, когда человек, вросший в твою плоть и кости, просит тебя о чем-то и ты, приняв под козырек, бежишь исполнять, было невозможно. Это было тем, что нельзя понять, не испытав на собственной шкуре.
– Мы обсудили, – признался Петя. – Я сказал, что Новый год я пообещал провести с друзьями, но она… Короче, пришлось пойти на уступки и съездить ненадолго к ее друзьям.
– И что по итогу?
– По итогу она сидела весь вечер с постным лицом в ожидании, когда я уйду, чтобы, видимо, рассказать подругам, какой я гандон.
– Она гандонов еще не видела. Ты размяк, старина, – Дима неодобрительно покачал головой. – Не к добру это.
– Да ладно, нормально. Не бери в голову, вырвался же!
– Надолго ли? – пробурчал Дима в стакан.
– Расскажи лучше, как твой день рождения отметили?
Дима пожал плечами. Он не любил праздники преимущественно потому, что, работая на фрилансе, он никогда не зависел от выходных, а еще потому что отмечать ему было решительно не с кем. Обычно семья Тереховых приглашала его погостить, но он всегда чувствовал себя лишним. Кроме того, года два назад, мама Пети и Игоря и без того редко видевшая сыновей неаккуратно высказалась в пользу того, что новый год это семейный праздник и Диме уже пора бы «найти свою семью». Никто на этот пассаж внимания не обратил, – мужчины на редкость твердокожие создания – но Дима запомнил и больше у них не появлялся. Он никогда не питал иллюзий, что Тереховой нравится его присутствие в их доме (все-таки, когда твой незамужний сын водит в дом исключительно своего молодого друга, нельзя не насторожиться), а тут и Петя перестал к ним ездить. С Игорем у них хоть и были дружеские отношения, но не настолько дружеские, чтобы смотреть, как его мамаша подтирает ему, рослому бугаю, сопли и задницу.
– Все было как обычно, – сказал Дима. – Выпили, поели, разошлись.
Вторая причина, по которой он не любил праздники, заключалась в их совершеннейшей пресности. Принятый чуть ли не повсеместно формат «выпил-закусил» никогда не был ему интересен, как не был он и понятен, потому что удовольствия не приносил. Сердце Димы, если таковое можно было угадать в куске мяса в его груди, не лежало к большим сборищам, а поесть и выпить он мог совершенно в любой день и для этого ему не нужен был ни антураж, ни товарищи.
– Девчонок сняли, – добавил Петя, подмигнув, словно говоря, что знает, что такое молодость.
– Сняли, скажешь тоже. Девчонки с филфака. Там просто щелкнуть пальцами было. Одна до сих пор мне написывает.
– Ты оставил ей свой номер?
– В потоке не сообразил, как это произошло, – тут Дима засмеялся. – Вообще, она бы меня, наверное, убила, если бы я этого не сделал. Свирепая жуть!
– Такие обычно очень горячие.
– Женщины с диким темпераментом – не моя тема.
Услышав звонок со стойки, Дима пошел за пиццей, и Петя задумчиво смотрел ему вслед. Когда они встретились первый раз, Дима был совсем еще ребенком и задирал Игоря в школе. Тогда он был жилистым тощим пацаном. Сейчас же Дима почти ничем не напоминал того ребенка, разве что в спокойствии и равнодушии, с которым он относился к жизни, временами мелькали страхи его детства. Он ни во что не верил – ни в дружбу, ни в семью, ни в любовь, – и всегда находился в полной уверенности, что не нужен никому во всем свете, и сам приучил себя ни в ком не нуждаться. Петя иногда задумывался, смог бы он жить также – совсем один, зато совершенно свободный.
Дима поставил деревянную дощечку на стол и, едва усевшись, сразу потянул в рот кусок.
– Я там еще одну с ветчиной заказал, – прочавкал он. – Жрать хочу ужасно.
– Насчет той «свирепой» девчонки, – сказал вдруг Петя, и у Димы тут же скривилось лицо. Он знал, что ему сейчас скажут. Петя всегда говорил одно и то же, особенно теперь, когда сам был в хомуте. – Может, попробуешь с ней встречаться?
– Ты хочешь испортить мне аппетит?
– Не увиливай. Ты живешь один в какой-то конуре, копишь все эти деньги непонятно на что, ведешь довольно разгульный образ жизни, и, памятуя о том, что у тебя вообще нет тормозов, я за тебя волнуюсь.
– Во-первых, я люблю свою «конуру». Я кстати, в этом году переехал из студии в однушку, так что расширился. Во-вторых, деньги я не коплю, мне просто не на что их тратить, но траты на бабу – это все равно, что вкладываться в заведомо убыточные акции.
– Можешь перепродать на подъеме.
– Или закончить в убытке, ага. В-третьих, я не веду разгульный образ жизни. К свингерам я все еще не примкнул, сатириазом не страдаю. Просто у меня холодное сердце. Я не способен на симпатию и уж тем более на любовь. Смирись уже с этим.
– Хорошо, а в-четвертых?
– В-четвертых?
– Что у тебя тормозов нет – это меня больше всего беспокоит.
– А, тормозов, – протянул Дима. – Ну тут… Я просто делаю, что хочу, Петь. Живу, как хочу, ем, что хочу, сплю, когда хочу, и умру я тоже, как хочу. У меня со смертью контракт.
«Контрактом со смертью» Дима называл готовность по первому же внутреннему требованию заложить жизнь в обмен на порцию экстрима. Он любил ощущение свободы, которое давал ему адреналин, когда кровь бурлила, сердце упоительно сжималось, а жизнь, бегущая по венам, становилось до того жгучей, яростной и страстной, что казалась даже прекрасной. В погоне за этими ощущениями Дима прыгал с банджи, получил разряд по парашютному спорту, занимался скалолазанием, играл в зацепера и лез в постель к «занятым» девушкам. Ему было все равно, как к этому отнесутся другие, и он всегда был готов брать на себя ответственность, будь то разбитое лицо или сломанный позвоночник. Он хотел брать. Брать, брать, брать. Брать от жизни все, до чего дотянутся руки, испытать все ощущения, которые только могли синтезировать его нейроны. Тело, которое склонные к эзотерике женщины называли храмом, было для него средством, и если бы в какой-то момент его оказалось уже невозможным починить, что ж, он нашел бы возможность его выкинуть.
Таков был человек, живший только ради себя.
– Жизнь ничего не стоит без риска.
– Ты не можешь жить так всегда.
– Почему?
И правда, почему? Петя не смог бы дать вразумительный ответ и затолкнул в рот кусок пиццы. Человек не может жить так, как хочет, особенно если он хочет того, что в глазах общества является симптомом асоциального расстройства, – иначе его должны лечить. Петя усвоил это от родителей, а те от своих родителей, а те от своих, однако времена изменились, и пришла эпоха диссидентов. Петя чувствовал себя неспособным спорить с Димой. Они принадлежали разным поколениям, да и Петя понимал, что общество очень много задолжало этому мальчишке. Пусть резвится, пока не перебесится. Но перебесится ли?
Все это поколение нуждалось в серьезной психиатрической помощи.
– Как на работе дела? – спросил Петя.
– Фриланс тебе о чем-нибудь говорит?
– О том, что ты безработный?
Терехов фрилансом подрабатывал, когда была нужда, и не относился к таким заработкам серьезно. Для Димы же это был единственный вид заработка, не накидывавший на него ярма.
– Ха-ха. У тебя самого-то что?
– Ну слушай.
Тут у Пети зазвонил телефон. По его лицу, тут же выразившему и тревогу, и надежду, и обиду, и испуг, Дима понял, кто звонит.
– Петь, выруби его.
– Я не могу, вдруг, что срочное.
– Петь, – надавил Дима. – Выруби его.
Терехов скорчил такую жалостливую физиономию, что Диме оставалось только махнуть на него рукой. Петя взял трубку и выбежал с торопливостью подростка, не желающего говорить с девочкой при маме. Отчасти так и было. В присутствии Димы, встречая его прямой взгляд, мало изменившийся с тех лет, когда он был пацаненком, и холодную логику, идущую вразрез со всем, что мило человеку, Петя ощущал себя куда моложе своих лет и стеснялся Димы, как если бы он был старшим товарищем, готовым вздуть его по любому поводу. Терехов не мог не признаться себе и в том, что он побаивается за этого парня. В том, с каким вызовом Дима относился к жизни, было много решительности самоубийцы.
Когда Терехов вернулся, первое, что бросилось Диме в глаза, это то, как он осматривает стены в поисках часов. «А поводок-то не длинный», – подумал Дима, но никак это не прокомментировал. Когда Пете надо было уйти, он уходил.
Проболтав с полчаса, Петя поднялся со своего места. Дима молча протянул ему руку. Они тепло попрощались так, словно Терехов вовсе не бросал его внезапно ради своей девушки, доставлявшей ему много мучений и все же являвшейся той, к кому он хотел вернуться. Дима знал, что в мире есть много такого, что он, возможно, не поймет никогда, так почему же поведение его друга не могло быть одной из таких вещей?
Он надел свою крутку, перебросил через плечо сумку и, взяв с собой бокал, вышел на террасу. Ему повезло – в этот самый момент два парня как раз отходили от края, и Дима встал на их место. С террасы открывалась панорама всей Лубянской площади: слева подсветкой мигал ЦДМ, справа вечно строящийся Политех, в лоб нападало рыжее здание органов безопасности, а внизу, в самом центре площади горела ВТБшная елка с огромными синими шарами. От нее шатром расползались бледно-желтые гирлянды, и, по мнению Димы, это все было как-то перебор – весь город превратился в сплошную горящую реку, и за подсветкой нельзя было ничего разглядеть.
На Красной площади забили куранты. Перезвон колоколов напомнил Диме звонницу в кремле родного города, а вслед за этим воспоминанием обозначились и менее приятные вещи из его детства.
Динамики в зале заиграли гимн. Наступил 2020 год.
Глава 4. Московские либералы
Россия – не то место, где по улицам свободно разгуливает гомосексуализм. Это вам скажет любой. Гомофобов тут масса: то ли климат для них подходящий, то ли среда питательная. И хотя в крови русского народа нет присущей европейцам жестокости (за яйца, наверное, никого не цепляли и по сельским дорогам не возили), о геях здесь говорить не принято и выражать им свою поддержку тоже. Однако негласно существует два правила: «Можно быть геем, главное не быть пидорасом» и «То, чем ты занимаешься дома, – твое личное дело». Русские не любят махать своим грязным бельем, поэтому людям с нетрадиционной ориентацией живется здесь так же фривольно, как черным, но лишь до той поры, пока они не начинают кричать о неких привилегиях, которыми их щедро наделила просвещенная Европа, задолжавшая за свою долгую кровавую историю всему миру.
Катя, время от времени зависавшая в международных чатах, нередко сталкивалась с замечаниями, вроде: «У вас, у русских, куча проблем с правами человека». На первых порах она просила уточнить посыл и, увидев ответ по типу «Вот у меня друг на Урале живет, не может пол поменять. Что это, если не нарушение прав человека?», начинала агрессивно ругаться, своими язвительными комментариями добиваясь лишь того, что ее блокировали. Теперь на одной из кнопок быстрого набора у нее стояла фраза «Зато нет проблем с головой», и это действительно сокращало время на бесполезные споры, куда она по-прежнему влезала, ища отдушину. С Твитча ее удалили за нарушение правил сайта, когда она довольно резко высказалась о модернизации в сфере самоидентификации среди детей и новоявленном 31 поле, о котором человечество до XXI века даже не подозревало. Из Twitter она удалилась сама, насмотревшись, как работают права человека на американском президенте.
Свободы не было нигде, а вот вседозволенность, этот разъедающий плоть и дух крючок крабового менталитета, за который цеплялись все «не-такие», лезла изо всех щелей.
Впрочем, в России были проблемы не только с геями.
– Да, пап, – Катя поднесла трубку к уху, отворачиваясь от телевизора. Наташа уменьшила громкость.
– Привет, дочка. Как дела?
– Нормально.
– Что делаешь?
Катя перевела глаза на часы. Был вечер. Они сидели в гостиной у Наташи, допивая вторую бутылку вина, и смотрели какой-то американский сериал, вызывавший в Наташе и ее маме бурю восторга, к которой Катя присоединялась всегда с опозданием.
– У Наташки сижу.
– Правда?
– Да, – Катя насторожилась. – Что случилось?
– Да ничего. Дай Володю к телефону.
Катя жестом попросила Наташу поставить телевизор на паузу и вышла на кухню. Здесь за обеденным столом на диване, похрапывая, дремал друг Сергея Анатольевича.
– Дядь Володь.
Храп прервался на высокой ноте. Мужчина приоткрыл глаз.
– Чего?
– Папа просит вас к телефону, – Катя протянула трубку.
– Алло, Анатолич? Здорово! Да задремал малеха. Все хорошо, как сам?
На кухню подтянулась Наташа и тетя Таня. Места сразу стало как-то мало.
– Не, я сегодня дома. Девчонки у меня, да, – Владимир Львович подмигнул им, застывшим в дверях, и тут вдруг стал серьезным. – А, вот оно что. Понял тебя, Анатолич. Ну спасибо, что позвонил. Да, конечно помню, в следующую субботу. Договорились, все. Давай, доброй ночи.
Владимир Львович передал Кате телефон.
– Ну чего там? – не вытерпела мама Наташи.
– Да ничего. Опять детишки Навального на улицы высыпали. Сказал за девчонками приглядеть, а то, мол, чего в универе от безделья только ни нахватаются. Так что сегодня сидите дома.
– Да мы и не собирались уходить, – пожала плечами Наташа. – Не май месяц на дворе.
Это было время, когда многие люди страны вывалили на улицы после провокационных расследований «Фонда борьбы с коррупцией» Навального. Последний его фильм про дворец Путина наделал много шороху, впрочем, никого не удивив. Российский менталитет исторически складывался таким образом, что простым людям было интересно не столько, откуда богачи берут деньги, сколько то, чем все это закончится. Экспрессивные разоблачения Навального возбуждали в либеральном студенчестве чувства европейского патриотизма, и те выходили на улицы вновь и вновь не из желания что-то менять, а из интереса – посмотреть, что из этого выйдет. Прокатившиеся по России митинги были явлением непонятным, в некоторой степени даже смешным, если вспомнить, насколько успешны бывали подобные предприятия в Российской империи и Советском союзе. На улицы выходили школьники, студенты и взрослые из числа тех, чью жизнь целенаправленно испортил Путин своей резиденцией в Геленджике. Но в этих вылазках на Пушкинскую и Болотную площади, если уж и не было смысла, то был дух, – этого не отнять. Дух либерализма, который в 2022 году оказался запертым где-то в подвалах Лубянки многочисленными законами, окончательно прижавшими журналистику и свободу слова, а после выведен на расстрел.
За происходящим Катя не следила, однако то тут, то там до нее доносились отголоски возмущения студенческой диаспоры. Она лишь пожимала плечами. Россия никогда не была Францией, и студенчество не имело ни одного рычага давления на государство, которое, в свою очередь, не гнушалось пачками грузить недовольных в полицейские машины. Кроме того, как лидер Навальный был слабоват, а русские, как звери, чувствовали слабость, и руководить ими нужно было уметь. В общем, политического лидера из этой фигуры не получилось бы, это было ясно, и Катя больше не интересовалась этой темой. Возможно, она бы вышла за идею, но идеи ведь тоже не было. Была череда взяток, случаев незаконного обогащения в годы беззакония, и все это было известно, и на каждого была заведена папка, представлявшая собой вторую мошонку каждого взяточника, за которую правительству можно было ухватиться при любом удобном случае, чтобы стрясти с миллиардеров денег на постройку олимпийских объектов, запуск студенческих стартапов, финансирование погибающих и уже погибших отраслей. И так оно работало повсеместно: в России, в США, в Великобритании, в Китае, – все страны держали магнатов за яйца, время от времени закрывая глаза на их махинации и тем самым только усиливая хватку. Это все было не ново, нет, совсем не ново!
И хотя Навальный со своим либеральным студенчеством вызывал у нее только усмешку, волнение Сергея Анатольевича было вполне оправданным. Бывало, за столом перекинувшись парой слов о том, что происходит в мире, они завязывали жаркий спор. Так, например, Катя упорно называла присоединение Крыма аннексией. Она не выступала за то, что Крым принадлежит Украине, – потому что черта с два он когда-либо был ее частью! – но у ребят ее возраста была страсть называть вещи, если не своими именами, то именами громкими, которые привлекали внимание и выводили на дебаты, и этой страсти Катя отдавалась целиком. Это заставляло ее отца кипеть и приписывать ее к нарастающему полку «либерастов». Вот и сейчас Сергей Анатольевич позвонил ей, чтобы узнать, не загремела ли она в кутузку в числе других непримиримых борцов за право быть неправыми.