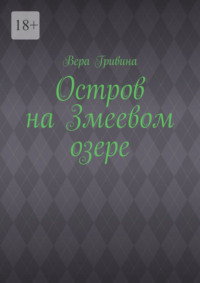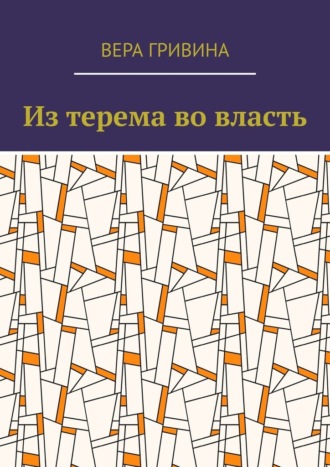
Полная версия
Из терема во власть
– Вот я и велел дьякам подготовить указы о новых служилых разрядах как раз к тому времени, когда будет составлена родословная книга.
Царь подошёл к заваленному бумагами столику, вытащил листок и протянул его Голицыну.
– Не токмо родовитые люди должны иметь свою книгу.
Князь вслух прочёл:
– «А книгам быть: родовитых людей, выезжих, московских знатных людей, дворянских, гостиных и дьячих, всяких низких чинов».
– Все книги будут храниться в Гербальной палате, – гордо сообщил Фёдор.
Князь Василий Голицын понял замысел царя. Любое сословие при наличии своих родословных записей переставало быть «подлым» и, значит, становилось твёрдой опорой для государя. Царь не зря связывал создание книг с указами о служилых разрядах: по его замыслу всякий имеющий способности сможет добиться высоких чинов, не страшась упрёков в тёмном прошлом рода.
– Нельзя творить перемены, не имея поддержки, как в высоких, так и в низких чинах, – добавил государь.
– Можно, коли в ход пустить дубину.
– Нет уж, мы без дубины управимся. Правда, князь?
– Попробуем.
– Ступай, князь! Поразмысли об устроении больших служилых чинов.
Едва Голицын сделал несколько шагов к двери, как Фёдор окликнул его:
– Погоди, князь! Больно мне кафтан твой приглянулся. Дай поглядеть на него, как следует.
На стройном князе Голицыне был довольно короткий, выше щиколотки, кафтан. Хотя обычно в таком наряде щеголяла молодёжь, князь Василий Васильевич в свои тридцать восемь лет не боялся выглядеть несолидно. Правда, появился у государя в таком одеянии он впервые, но, видимо это решение было им принято в добрый час.
– Надобно сию одёжу узаконить, – заключил царь.
Спустя несколько дней, с Постельного крыльца огласили царский указ: ферязи, охабни, однорядки и прочее длиннополое мужское платье поменять на короткие кафтаны. Скоро после этого стрельцы перестали впускать длиннополых в Кремль. Месяца не прошло, как вся Москва переоделась по доброй воле, тем паче новые наряды были дешевле старых.
Патриарх, ругавший бритьё бород и прочие иноземные затеи, к перемене платья отнёсся спокойно. Зато он не принял желание государя увеличить число епархий. По царскому замыслу, каждый митрополит должен был получить в подчинение епископов – вот Иоаким и усмотрел в готовящейся реформе попытку ограничения его власти, а Освящённый собор поддержал своего главу. Архиереи неохотно согласились на образование одиннадцати новых епархий, и притом не спешили исполнить собственное постановление.
Царь Фёдор впадал в отчаяние. Уже совсем больной он пытался образумить церковных иерархов, но каждый раз натыкался на непонимание.
В один из зимних дней государь встретился с патриархом в Грановитой палате. Войдя туда, крепкий старик торжественно благословил измождённого юношу.
– Садись, отче! – указал Фёдор на место подле себя.
Иоаким остался стоять.
– Мне, государь, сподручнее так вести с тобой беседу.
Кивнув, государь заговорил о деле:
– Наши архиереи не желают посылать епископов на Лену и в Дауры. Неужто Сибирской стране не надобны архипастыри?
Патриарх пожал плечами.
– В тех краях людей почитай нет, а есть одни язычники поганые.
– Язычники тоже люди, и им надобно указать путь к спасению.
«Аки волка не корми, он все в лес смотрит. Посечь бы всех поганых вместе с их капищами богопротивными», – подумал Иоаким, но вслух этого не сказал.
Царь продолжал настаивать на своём:
– В Сибири и православные живут. Им-то чего делать? Вон к Нерчинску и Албазину китайцы подступают. Случись беда, сгинут христиане без покаяния.
– Есть ведь в Даурах священнослужители, – недовольно проворчал Иоаким.
– Они в малом числе. Тамошние земли наши навечно, и нехристям мы их не отдадим. Я повелел строить города в Сибирской стране и выступить против китайцев всем служивым людям. Однако чтобы нам в дальних краях укрепиться, надобно там веру христианскую распространять.
– Мы с Освящённым собором ещё потолкуем о сибирских архипастырях, – недовольно отозвался патриарх. – Хотя может лучше отдать дальние земли вместе с погаными иноверцами китайцам? Нам в исконной вотчине забот хватает.
Государь нахмурился.
– Ты, отче, готов отдать наши земли всем, кому не попадя: Киев с Малороссией – ляхам, Сибирь – китайцам. Тебя послушавши, я на одной Москве останусь. Значит, в исконной вотчине хватает забот? Уж куда исконнее Галич с Костромой, а Церковью православной забыты. Там раскольники хозяйничают, равно как и в Путивле с Севском.
– Так наведи войско, изничтожь ересь силой.
– Кажись, терпение и смирения не в чести у вашего брата, архипастыря. Не обессудь, отче, но порой я, на тебя глядючи, расстригу Аввакума поминаю. Есть меж вами схожесть.
Патриарх аж побагровел.
– Чем же мы схожи? – тихо спросил он.
– Тем, что крови людской не страшитесь. Аввакум желает пережечь и перепластать всех православных, а ты готов изничтожать всех без разбору раскольников. Может быть, среди заблудших овец немало тех, чьи души спасутся от мудрых наставлений?
– Не больно они души берегут! Жгут себя ироды целыми сёлами! И вечные муки им не страшны!
– Воистину раскольники свершают тяжкий грех. Но главная вина лежит не на простых людишках, а на их пастырях. Значит, наши пастыри должны быть лучше.
Багровый цвет лица Иоакима приобрёл синеватый оттенок.
– По-твоему, пущай Аввакум с братией здравствуют, а мы же будем с ними в велеречии состязаться. Их погаными языками сам нечистый, прости Господи, вещает. Покуда его словесами одолеем, ещё немало народу себя пожгут.
– Ладно, отче, дам я согласие на казнь Аввакума, Лазаря, и Епифана, – устало сказал Фёдор.
Патриарху сильно не понравилось явное нежелание государя чинить расправу.
– Ты царь али не царь? Коли мнишь себя царём православным, должен защищать основы Веры и казнить беспощадно врагов наших, инако падет истинное христианство, придёт всеобщий соблазн и настанет конец Мира.
– Уж больно много ты, отче, тьмы нагоняешь. Бог милостив! Он нас спас даже в Смутное время.
– Тогда спас, нынче покарает, за то, что науку не усвоили, иноверцев сызнова привечаем, слушаемся их, да еще и походить на них хотим, а взамен рушим во имя мирских соблазнов древлепреданное церковное устроение.
– Ну, положим, устроение церковное не древнее: российскому патриаршеству нет и сотни лет.
– Перемены не возбраняются, когда они крепят Святую Церковь, но нельзя допускать разорения единого храма Божьего.
– Ты, отче, страшишься, что при великом числе епархий, власть твоя уменьшится, – раздражённо сказал государь.
Иоаким опять покраснел.
– Смиренный раб Божий не ради власти принял постриг, но ради служения Господу.
– Прости, отче, за обидные слова – заговорил Фёдор уже помягче. – Царь тоже человек и не всегда умеет совладать с неправедным гневом.
– Бог простит, – откликнулся патриарх уже с обычным своим спокойствием.
– Поставьте архипастырей хотя бы туда, где учинили епархии. Ступай!
Глядя вслед уходящему старику, Фёдор невольно ему позавидовал:
«Ишь, как бодро ступает!»
Скоро царь совсем слёг, после чего даже князь Василий Голицын перестал что-либо делать, не говоря о прочих царедворцах. Все выжидали. А двадцатилетнему государю Фёдору Алексеевичу становилось все хуже и хуже.
Глава 1
Первое стрелецкое брожение
23 апреля 1682 года Москва была окутана ненастьем. Беспросветные тучи, закрывая собой всё небо, высыпали на город непрерывный мелкий дождь. Вода была повсюду: она капала с уныло свисающих веток, падала с навесов над воротами и крыш, текла по земле ручейками, собиралась в лужи, висела в воздухе и, смешиваясь с дымом из печных труб, образовывала мрачную туманную мглу.
Редкие прохожие спешили убраться с улиц в тёплые помещения, чтобы возле топящихся печей обсуждать с родными последние московские новости. А говорили москвичи в основном о тяжёлой болезни государя Фёдора Алексеевича, причём многие не теряли надежды на то, что он и в этот раз сумеет выжить. Уж очень народ любил этого доброго и благочестивого царя.
Взошедший на престол подростком Фёдор Алексеевич замысливал немало добрых и полезных дел, однако одни из его замыслов совсем не были воплощены в жизнь, другие воплотились лишь в виде начинаний без продолжений. Наследником умиравшего молодого царя считался его брат Иван, имевший такое же, как у Фёдора слабое здоровье, но не обладавший столь же крепким духом, поэтому вопрос о власти, как говорится, повис в воздухе. Вокруг освобождающегося трона уже вовсю плелись интриги. Царедворцы сплачивались, разъединялись, предавали друга ради того, чтобы занять наиболее выгодное место при новой власти. Никто из них ни разу не подумал о существовании в Москве ещё одной силы, зато сама она впервые грозно о себе напомнила именно в этот начавшийся слякотью день.
Дождь прекратился после полудня. Как-то сразу вдруг раздвинулись тучи, и сквозь мутный просвет несмело выглянуло солнце. Москва по-прежнему оставалась погруженной в тишину и покой, пока из стрелецких слобод и солдатских Бутырок3 не послышался вдруг многоголосый гомон. А скоро затрещали барабаны, и раздался стройный топот множества ног.
В это время на Красной площади открывались после дождя лавки, понесли свой товар торговцы всякой мелочью, появились и первые покупатели. Народ с удивлением прислушивался к приближающемуся шуму. Не успел никто опомниться, как появились шагающие стройными рядами стрельцы и солдаты.
Когда царь окончательно слёг, положение низших воинских чинов заметно ухудшилось. Служивые не получали жалованье, зато обретали у начальства немало новых тягот. В стрелецких слободах роптали всё больше, о чём в Кремле, конечно же, было известно. Но бояре не обращали на этот ропот никакого внимания. Не в первый раз служивые волновались, и всегда всё успокаивалось само собой. Каково же было изумление обитателей Кремля, когда под грохот барабанов государева надворная пехота4 вошла в Никольские ворота. И, судя по цветам форменных кафтанов, в этом вторжении участвовали все стрелецкие и солдатские полки.
Думный постельничий, боярин Иван Максимович Языков, выскочив на боярскую площадку, столкнулся нос к носу с главой Стрелецкого приказа, престарелым князем Юрием Алексеевичем Долгоруковым.
– Тебе, старый хрен, давно служба в тягость! – рявкнул думный постельничий. – Ты что же, все дела своему сынку препоручил, а сам бока на печи греешь? Да и твой сын, оса ему в седалище, тоже, кажись, не справляется! С вас обоих будет спрос за то, что стрельцы перепились и шумят под окнами хворого государя! Немедля наведите порядок: высеките зачинщиков, иначе сами кнута отведаете!
Князь Долгоруков обиделся:
– Придержи коней, боярин! Кто ты таков, чтобы грозить князьям Долгоруковым? Что, высоко забрался? И покрепче тебя мужи с той высоты падали!
– Что там творится, князь? – умерил свой пыл Языков.
– Стрельцы взбунтовались, – ответил ему Юрий Алексеевич. – Они явились сюда жаловаться царю на своих полковников.
Думный постельничий опять взбеленился:
– Значит, жаловаться они явились? А ты будто не знаешь, как полагается поступить с жалобщиками? Возьми главных смутьянов под стражу и закуй их в железо!
– Я что ли, буду хватать стрельцов? – огрызнулся князь. – Али ты возьмёшься их заковывать? А больше и некому!
Только теперь до Языкова, наконец, дошло, что Кремль охраняют такие же стрельцы, как и те, которые явились с жалобами. Никаких иных сил у государя и бояр не имелось. А стрельцы, конечно же, не дадут своих товарищей в обиду.
– Нынче надобен не кнут, а пряник, – сказал со вздохом князь Долгоруков.
– Не позвать ли патриарха? – нерешительно предложил думный постельничий.
Глава стрелецкого приказа с сомнением покачал головой.
– Не больно-то речист наш патриарх. Пригрозить он ещё умеет, а умасливать не особливо у него получается. Как бы хуже не вышло…
Не успел он договорить, как громкий топот множества ног возвестил снизу о том, что стрельцы сумели-таки добраться до царских палат.
Языков растерянно уставился на своего собеседника, а тот побелел, как полотно. Главе Стрелецкого приказа сейчас менее всего была желанна встреча с собственными подчинёнными: ведь служивые вполне могли спросить за вину своего малого начальства, на которое они явились жаловаться, с начальства большого.
Оба придворных мужа, отбросив степенность, приготовились спасаться бегством, но неожиданно сверху послышался знакомый тихий голос:
– Не суетись, Алексей! Грешно народу отказывать, ежели он желает потолковать со своим государем. Русские люди терпеливые – они бьют челом лишь от безысходности.
У лестничной перегородки, отделяющей царские покои от боярской площадки, стоял измождённый государь Фёдор Алексеевич. С двух сторон его поддерживали два брата братья Лихачёвы.
Тем временем выборные от стрельцов уже поднялись по ступеням Постельничего крыльца. Они были промокшими до нитки, их лица возбуждённо пылали.
Языков и князь Долгоруков ретировались поближе к царю, однако стрельцы не обратили внимание на обоих царедворцев. Выборные упали перед царем на колени.
– Смилуйся, государь! – вскричал самый старший из них. – Пощады молим!
Фёдор выпрямился и отвел от себя руки братьев Лихачёвых.
– Что за нужда привела вас ко мне?
– Управу ищем на полковника Семёна Грибоедова! Он, бесчестный, совсем нас уморил поборами да тяготами!
Государь, не устояв, покачнулся, но не упал, потому что успел ухватиться за руку старшего Лихачёва.
– Князь Юрий Алексеевич! – обратился царь к князю Долгорукову. – Повелеваю тебе расследовать сие дело!
Глава Стрелецкого приказа низко поклонился.
– Слушаюсь, государь!
Царь опять заговорил со стрельцами, и с каждым словом его голос всё больше слабел:
– Даю слово государя, что, ежели ваш обидчик виновен, он будет строго наказан.
Стрельцы отвесили земные поклоны с таким пылом, что от их лбов затрещал пол.
– Век будем молить за тебя Бога и детям накажем! – проорал один из них.
Осмелевший Языков выступил вперёд.
– А теперь ступайте отсель! – сердито велел он. – Совсем вы уморили государя!
Стрельцы поспешно вскочили и, кланяясь на ходу, стали пятиться задом по ступенькам. Когда Лихачёвы увели совсем сникшего Фёдора, Языков и князь Долгоруков вновь остались вдвоём. Они злобно разглядывали растекшиеся по боярской площадке лужи.
– Холопье отродье! – выбранился князь Долгоруков. – Для них всё одно – что государевы палаты, что скотный двор.
Главе Стрелецкого приказа было из-за чего сердиться: за время последнего приступа болезни царя не только сам князь Юрий Алексеевич, но и заменявший его на службе сын, князь Михаил Юрьевич, привыкли к спокойной жизни. Теперь от них обоих потребовали деятельности, а они предпочитали заниматься своими обязанностями не слишком ретиво – без ущерба собственному здоровью. Отлынивать от службы возможности не было: добрый и незлобивый государь умел проявлять требовательность и всегда держал своё слово, кому бы его не давал, не страдая забывчивостью, свойственной многим власть имущим. Надеяться на скорую смерть царя тоже не стоило: четыре года назад Федор Алексеевич едва не испустил дух, но вдруг в одночасье выздоровел и развил бурную деятельность.
Князья Долгоруковы принялись за выполнение царского повеления и за один день полностью доказал вину Семёна Грибоедова. Государь Фёдор Алексеевич, узнав о результатах расследования, продиктовал следующий указ:
«Семёна Грибоедова сослать в Тотьму, и вотчины отнять, и из полковников отставить».
Однако это повеление осталось на бумаге, потому что 27 апреля царь скончался. Семёна Грибоедова отпустили из-под ареста, оставив в прежнем чине. Он, впрочем, как и другие полковники, вдруг резко изменил своё отношение к простым стрельцам. Теперь стрелецкие начальники уже не мучили своих подчинённых поборами и тяготами, а принялись обвинять во всех грехах бояр-мздоимцев. По стрелецким слободам поползли слухи, что изменники-царедворцы отравили доброго государя Фёдора Алексеевича, а теперь хотят лишить жизни и его брата, царевича Ивана Алексеевича, чтобы возвести на престол сына царя Алексея Михайловича от второго брака, малолетнего царевича Петра, за которого станут править родственники его матери – ненавистные народу Нарышкины. Но больше всего служивых взбудоражило известие о возвращении из ссылки когда-то всесильного боярина Артамона Сергеевича Матвеева, о котором у них были самые неприятные воспоминания.
Надвигались грозные события.
Глава 2
Незаконное наречение
Царевны Татьяна Михайловна и Софья Алексеевна находились возле государя до самого его смертного часа. Когда стало понятно, что Фёдор испустил дух, его сестра горько разрыдалась. Этот плач подхватила тётка усопшего царя, в соседнем покое тут же заголосили остальные царевны и завыла юная вдова, царица Марфа Апраксина. Немного погодя уже по всем царским палатам слышались громкие причитания женщин.
Очень скоро на Софью навалилась тяжёлая усталость – следствие множества бессонных ночей у постели больного брата. Сенные девки отвели лишившуюся сил царевну в опочивальню, где она упала на постель и сразу же забылась глубоким сном.
Утром Софья обнаружила, что челядинки сняли с неё только головной убор и обувь, но оставили на ней летник5, чулки и даже бугай6, боясь, по всей очевидности, потревожить спящую. Царевна села на постель и посмотрела так, словно не узнавала знакомую с детства опочивальню с украшенными весёлой разноцветной резьбой деревянными стенами. Придя, наконец, в себя, Софья кликнула сенных девок.
В соседней с опочивальней горенке она устроилась перед зеркалом в изогнутой золочёной раме с искусным орнаментом. Две челядинки начали приводить царевну в порядок. Обычно она внимательно следила над тем, что с нею делают девки (они могли и брови криво насурьмить, и румянец плохо наложить), но сегодня собственная внешность её совсем не занимала.
Царевна принялась размышлять о брате Иване, которому по закону теперь доставались скипетр и держава, и о котором родственники царицы Натальи Кирилловны, Нарышкины, распускали слухи, что, де, он, имея многочисленные телесные недуги, ещё и «скорбен головкой»: то есть, идиот. Это утверждение было ложью: царевич Иван имел достаточно ума, чтобы читать сочинения Платона, Аристотеля, Блаженного Августина и прочих философов, помнить наизусть произведения Вергилия, Горация, Овидия и Петрарки, знать множество житий святых. Однако, ориентируясь без труда в дебрях философии поэзии и богословия, он был совершенно беспомощен в государственных делах.
«Как же Ванюша будет править? – беспокоилась Софья. – Без достойных советчиков ему, вестимо, не обойтись. Должно быть, он выберет себе в ближние бояре нашего родича Милославского, хотя здесь больше подошёл бы князь Василий Голицын, коего не зря ценил царь Фёдор».
Она тяжело вздохнула. Её брату предстояло не только заниматься тем, чем он никогда прежде не занимался, но ещё и противостоять скандальным родственникам царицы Натальи Кирилловны, которую Софья за глаза называла Медведицей. Хватит ли у Ивана на все это здоровья и характера?
Царевне ничего не оставалось, как пожалеть о том, что она – не мужчина. Кабы ей с её отменным здоровьем и острым умом сесть на царство, все проблемы решились бы. Но, увы, Господь Софью сотворил девицей, а девицам в Российском государстве править не полагалось.
Она была третьей из пяти дочерей Алексея Михайловича. С рождения Софья воспитывалась, как и другие царевны, но вдруг выбранный в учителя её братьям Симеон Полоцкий, попросил царя, чтобы тот дозволил и ей посещать занятия: мол, девица слишком умна, чтобы оставаться необразованной.
– Зачем ей науки? – удивился Алексей Михайлович
– Дабы стать мудрой советчицей государю, – изрёк Полоцкий.
Этот ответ понравился Алексею Михайловичу, и он разрешил дочери учиться. Софья оказалась весьма способной к наукам, и, когда её брат Федор взошел на престол, она, как и предсказывал Симеон Полоцкий, стала царю хорошей советчицей.
«А Ивану тем паче надобны мои советы. И мудрость Татьяны Михайловны ему не будет лишней».
Самой младшей из сестёр царя Алексея Михайловича, царевне Татьяне Михайловне, исполнилось сорок шесть лет. Люди, помнившие её молодой, говорили, что она была когда-то хороша собой. От той красоты остались незабудковые глаза, брови в разлёт, точёный нос, статное тело и величавая походка. Однако мало кто любовался всем этим, как в прежние времена так и в нынешние, потому что по существовавшей лет сто традиции девицы из царского семейства, вне зависимости от их возраста, не показывались на глаза никому из мужчин, кроме родственников, священнослужителей и малого числа бояр. Только одну из дочерей царя Михаила Фёдоровича, Ирину Михайловну, пытались выдать замуж за иноземного принца, однако из этой затеи ничего не получилось. Уделом царевен было затворничество.
Благочестивая Татьяна Михайловна когда-то часто общалась с патриархом Никоном, а когда его низложили и сослали, принялась за него хлопотать. Благодаря её стараниям, царь Фёдор всё-таки разрешил опальному Никону вернуться в возведённую в годы его патриаршества Воскресенскую Новоиерусалимскую святую обитель, до которой, впрочем, старик так и не доехал, скончавшись в дороге возле Ярославля.
Патриарх Иоаким, будучи ярым врагом Никона, недолюбливал Татьяну Михайловну, но, уважая её великое благочестие, и зная, что государь не даст в обиду любимую тётку, не ссорился с ней даже тогда, когда она вызволила опального архиерея из монастырского заключения.
И в царском семействе к Татьяне Михайловне все относились с почтением, а Софья вообще воспринимала её, как свою вторую мать.
«Вдвоём с тёткой мне в случае чего будет легче унять Милославского: он её побаивается…»
Неожиданно дверь горенки с шумом распахнулась, и на пороге возникла необычайно взволнованная Татьяна Михайловна.
– Господи Иисусе! – испугалась Софья. – Что ещё случилось, тётушка?
Татьяна Михайловна всхлипнула:
– Бояре, окольничие, думные и ближние люди присягнули Петруше!
– Медвежонку? – вскрикнула Софья, поднявшись так резко, что поправлявшая ей головной убор девка не устояла на ногах и плюхнулась на пол.
– Ему родимому, – подтвердила тётка.
– Да как они посмели? Кто им дозволил?
– Такова была воля патриарха; мол, царевич Иван хвор…
Побагровев от гнева, Софья прервала тётку:
– А не много ли на себя берет смиренный богомолец? Ему положено заботиться о наших душах, а не царством-государством управлять! Как сказано в Писании: Богу Богово, а кесарю кесарево! А бояре, значит, заодно с ним?
– Среди бояр есть и не согласные с нашим духовным отцом.
– Но никто против него не пошёл, значит?
Татьяна Михайловна развела руками.
– Мне мало что ведомо. Потолкуй с боярами. В моих покоях сидят князь Яков Одоевский, князь Михайло Черкасский, князь Фёдор Урусов да Пётр Шереметев – они хотят с тобой повидаться.
Софья поспешила в покои тётки, где в просторной светёлке с огромными окнами сидели четверо бояр в траурных одеждах. Старшим из гостей Татьяны Михайловны был Пётр Васильевич Шереметев, коему перевалило за шестьдесят лет. Он сам и его родные были при дворе на особом положении, поскольку один из Шереметевых, Фёдор Иванович, в свое время немало потрудился для того, чтобы на престол взошёл Михаил Фёдорович Романов. Пётр Васильевич знал себе цену и сохранял достоинство в любой ситуации. Вот и сейчас он казался самым невозмутимым из бояр.
У потомка кабардинских правителей, князя Михаила Алегуковича Черкасского лихорадочно блестели глаза, а его смуглое лицо приобрело красноватый оттенок. Как он не старался держать себя в руках, горячая южная кровь бурлила в нём со всей силой.
Скрывать волнение не получалось и у дальнего царского родича, князя Якова Никитича Одоевского. Когда вошла Софья, он растерянно посмотрел на неё и вытер пот со лба.
Тридцатипятилетний князь Фёдор Семёнович Урусов, имел, несмотря на свою относительную молодость, доступ в покои царевен благодаря, опять же, родству с ними, поскольку его мать приходилась племянницей патриарху Филарету7, а сам он взял себе в жёны свояченицу царя Фёдора, сестру умершей при родах царицы Агафьи Грушецкой. Вид у него тоже был смущённый.
– Значит, бояре поцеловали крест сыну царицы Натальи? – грозно спросила Софья.
– Да, – ответил князь Одоевский, краснея.
– И вы тоже?
– И мы, – признался князь Черкасский после недолгого молчания.
Софья едва не задохнулась от ярости.
– Изменщики!.. Ещё тело моего брата, царя Фёдора, не остыло, а вы уже память его предали!
– Патриарх нас привёл к крестному целованию, – подал голос Шереметев. – Он сказал, будто бы царь Фёдор Алексеевич самолично вручил царевичу Петру скипетр.