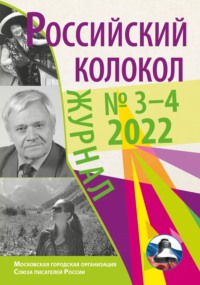Полная версия
Журнал «Юность» №10/2024
Почему-то в записках деда оказалось много обращений ко мне. Может быть, он писал эти мемуары, чтобы оставить память, и посвящал их внуку – посвящения на первой странице я не нашел, потому что не нашел, собственно, первой страницы. Но мне думалось, что он просто знал. Знал, что я буду читать его записи, и обращался ко мне сквозь годы и туман рассудка. Он будто сидел рядом и рассказывал о своей жизни – так, как никогда не делал раньше.
Долго я читал о дедушкином детстве, о жизни в бедной деревне, о послевоенных тяготах, об уходе за скотиной и чистке чугунков и ведер осокой и речным песком. А потом остановился. В душе как будто вспучился и лопнул какой-то пузырь. Этим пузырем был стыд. Мне показалось жульничеством и неуважением к деду читать его записи глазами.
Я перевязал лицо полотенцем, положил пальцы на испещренную неровностями бумагу… и опешил. Под пальцами буквы сливались в нечитаемый поток точек. Приходилось ощупывать каждый миллиметр этого бугристого холста, чтобы по крупинкам выцеплять из него историю. Я почувствовал себя четырехлеткой, который читает по буквам.
«Незрячие работали на производстве. Это может…»
Прочитав первое предложение, я вспотел. Сдернул повязку с глаз и увидел на часах, что прошло почти тридцать минут. Малодушная течь возникла в моей душе, и решимость прочесть историю «как положено» стала сочиться из нее капля за каплей.
Чтобы отвлечься, я взял в руки гитару. Закрыл дверь в гостиную, чтобы не мешать матери. Поставил на пюпитр ноты, выдохнул. Стал бегать пальцами по грифу, рассыпая по дедовой спальне пеструю мишуру звуков. Звуки не достигали моего сознания, оно скрылось в раковине черепа, словно моллюск. Да и ушей, признаться, они тоже почти не достигали. Я чувствовал, как вибрирует прижатая к груди дека, как щекочут пальцы шероховатые басовые струны.
А потом сконцентрировался на этом ощущении.
Мозоли на пальцах левой руки не оставляли им никакой чуткости, поэтому читал я правой. Но запомнив чувство шероховатости струн, ощутив рельеф обмотки, я перенес это чувство на брайлевские тетради. Почему-то пошло быстрее.
* * *Незрячие работали на производстве. Это может показаться странным, а может и вовсе безумным, но работали успешно. Всех инвалидов по зрению: жертв войны, производственных травм, несчастных случаев – переселяли в отдельные районы рядом с производственными цехами. От дома до цеха было идти пять минут через двор. Я уже освоился ходить с палкой, теперь мне выдали трость. Гладкая, с рукояткой на петле. Сказали, что белая. Не та узловатая коряга, что была в деревне.
Перебираться в город было страшновато. В деревне людей осталось мало, родители умерли. А тут государство предложило помощь. Деревенские меня перекрестили, почеломкали и отправили в город.
Производство было, как говорили тогда, многопрофильное. Делали все: от табуреток до противогазов. У нас в цеху вытачивались детали для автомобилей. Привыкал небыстро. Мастер был мужик толковый. Не пил, работу знал, объяснить умел хорошо.
Спустя год перезнакомился, сдружился. Василий был с противогазного цеха. На аккордеоне играл. Я заслушался однажды на празднике, да и попросил, чтобы он меня научил. Он тоже незрячий был, только несчастный случай – на охоте ему глаза дробью выбило. Играть до этого умел, переучиться пришлось только на брайлевские ноты. Талантливый мужик был, умер только рано от водки.
А Гришка-Суржик завел другую забаву. Заказал у руководства слепецкие шахматы, поставил доски в комнате отдыха и всех стал учить. Говорил, через полгода турнир проведем среди коллектива. Кто выиграет, тот получит такую доску.
Мне понравились шахматы. Я ощупывал их и представлял себе войска: как они разбредаются по клеточкам-полям, заминированным угрозой. Так я думал об этих шахматных полях – и каждая пешка, которой я жертвовал, чтобы подвести короля к мату, казалась мне двенадцатилетним мальчишкой, которому выбило осколками глаза, чтобы спустя несколько лет мы объявили шах и мат Рейхстагу.
Леша, если ты сейчас читаешь это, то принеси, пожалуйста, воды. Сейчас я захочу пить.
* * *Читая этот фрагмент, я как обычно сидел около дедушкиной кровати. Он проснулся, застонал – я скорее почувствовал, чем услышал это, – и попросил знаками пить. Я совсем не удивился и поднес к его рту стакан с трубочкой. Он напился, пожевал высохшими губами, заерзал. С грустью глядел я на впалые щеки, высокий морщинистый лоб и перечеркнутый белым крестом шрамов нос.
Призовые шахматные доски… А я всегда удивлялся, зачем дедушке их пять штук. Он всегда смеялся и отвечал: «Не зачем, Лешка, а почему!»
Они и сейчас лежали под кроватью стопкой, и слой пыли на них был для меня святым и неприкосновенным. Он был памятником дедушкиному угасанию. Если есть эта пыль – значит, есть и память о человеке, который не давал зарасти пылью всем этим вещам. И эту память я не готов был уничтожить.
Тем днем я занимался на гитаре три часа кряду. Звуки не пробивались сквозь вату, забившую уши, но пальцы стали чувствительнее и быстрее. Я ощущал, как отдается в грудной клетке вибрация гитары, и теперь знал наверняка, что музыку не нужно слушать ушами. До концерта оставалось две недели, я написал организаторам, что буду выступать.
После такого дня, полного звуков и открытий, ночная тишина, усугубленная глухотой, стала невыносимой. Захотелось сказать что-нибудь. Я спросил:
– Дедушка. А помнишь, ты вальс играл? «На сопках Маньчжурии»?
– На соп… как?.. – слабо выронил дедушка.
Я прочитал по губам, а не услышал.
– Кто?
И мы опять замолчали. Я вытер подступившие слезы и сжал его руку. Он ответил. Хватка у него была уже не той, что раньше, но все еще крепкой.
И вдруг он улыбнулся. Нет, он не помнил вальс, но он понял, что я рядом. И я понимал, что ему не просто тяжело быть больным и старым. Ему тяжело вдвойне из-за того, каким он был всю жизнь. Монолитом. Ледоколом, прущим напролом сквозь слепую тьму судьбы.
И теперь он снова почувствовал себя им – пусть на миг. Его рука сильна как прежде, моя ладонь смялась, хрустнули пальцы. Дедушка улыбался, и слезы радости сочились из-под запавших век.
* * *Леша, ты уже понял, как нужно слушать. Когда-нибудь ты поймешь, как жить – этому я тебя не научу. Слушай сердце и не удивляйся насмешкам судьбы. Я столько лет прожил в черноте и столько написал своим грифелем слов, что начал понимать кое-что о Судьбе. Она слепа.
Судьба пишет наши жизни шрифтом Брайля. Никто не знает, куда соскользнет ее грифель. У кого-то жизнь заканчивается – и на этом все, Судьба убирает эту запись в ящик. А у кого-то жизнь становится историей. Тогда Судьба иногда достает ее из ящика, чтобы перечитать иногда за рюмкой чая.
Сделал ли я все, что мог? Нет, наверное. Мог бы больше. Я не занял первое место в шахматном чемпионате по Смоленской области. Всего лишь третье. Не прочитал всех книг, которые хотел. Не разучил все пьесы, о которых мечтал; да и теперь не разучу – руки уже с трудом поднимают аккордеон, а пальцы деревенеют.
И все-таки мне не о чем жалеть. У меня были друзья, подарившие мне жизнь. У меня была дорогая и любимая супруга. Моя дочь достойная женщина, а внук – великий музыкант. Жизнь продолжается. Истории пишутся где-то там, небесным грифелем. Я твердо знаю, что мою историю перечитают. Если не Судьба, то ты, Леша.
* * *Два месяца незаметно пролетели за чтением дедушкиных рукописей, игрой на гитаре и помощью маме по дому. И теперь я играю.
Я сижу на сцене Большого зала Московской консерватории – на академическом музыкальном олимпе, в самом сердце нот, синкоп и фермат. Снаружи облетает улицы осень, за кулисами пахнет деревом и немного лаком, а на сцене – ничем. Хотя нет. Пахнет музыкой, светом и немножко пылью.
Сцену окутывает неестественная тишина, пелена глухоты закрывает от меня зал и струны моей собственной гитары. Пальцы, бесконечно чуткие от чтения шрифта судьбы, бегают по струнам и ладам, летяще касаясь их и извлекая звуки. Ноты накатывают на зал волнами, затейливая полифония стелется под кожу, идеальные крещендо тянутся сквозь застывший сверкающий воздух консерватории.
Я ничего этого не слышу.
Я вспоминаю последнюю запись. Думаю о ней, о дедушке, о музыке, шахматах, судьбе и все еще теплом грифеле, лежащем, как талисман, в нагрудном кармане пиджака. Я не думаю о смерти и не думаю о слезах. Есть вещи, которые сильнее смерти. Музыка. Память. Любовь.
Я играю.
* * *Это последняя запись, Леша. Чувствую, руки слабеют. Грифель все труднее держать. Когда ты прочтешь это, я уже не смогу с тобой поговорить. Иногда больно думать, что я не видел своими глазами ни тебя, ни твою маму, ни многих других, кто был и будет с вами рядом.
Слушай свое сердце. А мое замолчит ровно в тот миг, когда ты возьмешь последнюю ноту на своем первом концерте в Большом зале Московской консерватории. Я услышу тебя отсюда, не бойся. И не смотри на мои записи такими большими глазами. Это всего лишь бугорки на бумаге.
Я научил тебя слушать, но не могу научить жить. Этому ты научишься сам – если будешь слушать, как выстукивает твою историю небесный грифель. Только не полагайся на уши.
Играй, Леша. Играй. Не жалей обо мне. Никогда не жалей.
* * *Я играю, и слезы щиплют щеки. Я весь превратился в нерв, звенящий, как струна. Сердцем я слышу каждый шепоток в зале, вижу каждый приоткрытый от восторга рот, чувствую, как поднимаются мелкие волоски на затылках. Ощущаю каждую сжатую в кулаке ладонь. И слышу сквозь километры, как, улыбаясь, уходит старый человек в лучший мир, где снова будет молод и силен; и чувствую, как тяжелая крепкая рука сжимает мне плечо.
Я в последний раз слышу его голос, и он говорит мне: «Спасибо».
А потом все обрывается. Затихает последняя взятая нота. Последний удар его сердца. Последние секунды жизни, превратившейся в историю.
В зале повисает тишина. Тугая, натянутая, как тетива. И с этой тетивы срывается грохот. От него дрожат стены и звенит в груди. От него покачиваются роскошные люстры и колышутся портьеры. И тогда ко мне возвращается слух. Широким крещендо он набирает силу – и спустя несколько секунд мне кажется, что я сейчас оглохну снова.
Я улыбаюсь этой горькой шутке судьбы, написанной шрифтом Брайля. Я молчу, стоя перед огромным залом наедине со своей светлой скорбью. И каким бы ни был оглушительным грохот аплодисментов, я слышу сквозь него еще один звук – стук грифеля судьбы, пишущего новую историю.
Вадим Галкин

Родился в 1991 году в Москве. Победил в конкурсе рассказов Alpina Digital в номинации «Мистика» (2024). Вошел в лонг-лист премии «Лицей» с неопубликованным сборником рассказов «Добрые люди» (2023). Участвовал в семинаре молодых писателей «Мы выросли в России» от Союза российских писателей (2023, Махачкала). Учился литературному мастерству в Creative Writing School на курсах «Редактирование для писателей», «Пишем роман», «Проза для продолжающих», «Проза для начинающих». По итогам курса «Проза для продолжающих» выпускной рассказ вошел в шорт-лист (2022). Ведет телеграм-канал о своем творчестве: https://t.me/nadobromslove.
Бакалавр прикладной математики Высшей школы экономики. Работает владельцем продукта в крупнейшем банке-экосистеме.
Старая квартира
Рассказ
Огромная лужа, разлившаяся за ночь у подъезда Густава Гроссмана, внезапно исчезла к обеду. Чего нельзя сказать об ужасном настроении, которое, кажется, вовсе не собиралось исчезать, сколько ни свети на него солнцем.
А солнце светило – весна, которой, в согласии с календарем, предписывалось явиться три недели назад, наконец-то заглянула в Кенигсберг. Пробежалась игривыми лучами по черепичным крышам Амалиенау, бросила длинные тени кленов и ясеней на мощеные улочки. Да чего уж там, даже высушила лужу! А вот с настроением Густава не справилась.
– Я покажу, я им покажу, – бурчал он себе под нос, отбивая каблуками скоростной ритм. – Ишь, надумали шутить!
Прохожие расступались, ощущая загодя его агрессивный напор. А некоторые даже оборачивались и глядели вослед, стараясь уразуметь, что могло так разъярить невысокого, отчасти пухленького, лысеющего господина в солидном костюме-тройке.
– Мама, чего это дядя злится? – вопросил на всю улицу шестилетний мальчуган, мимо которого пронесся Густав.
– Тсс. – Мама приложила палец к губам. – Просто дядя встал не с той ноги.
Она, конечно, ошибалась – Густав встал с правой ноги, как он делал каждое утро всей своей сорокалетней жизни. Он вообще не допускал, чтобы в ежедневную рутину вмешивались непредвиденные обстоятельства, а уж начать утро с левой… Нет, увольте! Но вот уже вторые сутки все в жизни Густава шло наперекосяк, а если сказать прямо – катилось к чертям. Виной тому была злополучная квартира, которую он снял неделю назад. Сперва ничто не предвещало беды, но потом…
Меж безлистных деревец, растянувшихся вдоль улицы, наконец показалась цель, к которой так стремился Густав, – большой трехэтажный дом, напоминавший недостроенный дворец. Первый этаж был облицован красным кирпичом, переходившим в серые каменные стены, которые в свою очередь упирались в покатую крышу с несколькими конусовидными башенками. Из фасада выдавались два эркера, причем правый – под стать кирпичной кладке – доходил только до второго этажа, служа полом для миловидного балкончика с узорным ограждением и тонкими столбиками, поддерживающими черепичный навес. Нужный вход располагался с торца – к массивной деревянной двери вело восемь невысоких ступеней. Преодолев их, Густав резко остановился и только тогда почувствовал, как запыхался за свой десятиминутный путь. Рот непроизвольно приоткрылся, руки сами собой уперлись в колени, и Густав, дав волю ослабшему телу, принялся остервенело дышать. Если бы он нашел силы посмотреть вверх, то заметил бы каменную гаргулью, охранявшую вход в дом, которая и распахнутой пастью, и скрюченной позой очень напоминала его самого.
Придя в себя, Густав постучал в дверь – достаточно тихо, чтобы сохранить приличия, но в то же время вполне громко, чтобы подчеркнуть серьезность намерений как можно скорее увидеть хозяина. Однако никто не отозвался – то ли дверь не пропускала звуки изнутри, то ли Густава никто не собирался встречать. Хмыкнув (а точнее, резко выдохнув – дышать было все еще непросто), Густав постучал снова – на этот раз кулаком. И опять тишина.
– Ну, знаете… – проговорил он сквозь зубы и, отбросив напускное благородство, забарабанил обеими руками.
Спустя полминуты за дверью таки послышалась суета, что-то зазвенело, и затем дверь медленно, под скрипы и легкое кряхтение, отворилась. За порогом стоял высокий мужчина с длинными волосами, небрежно уложенными на косой пробор. Одет он был в потертый узорчатый халат – не в пример официальному наряду Густава, на его черные стоптанные туфли налипла паутина, а в руке он держал подсвечник с потухшей свечой.
– Господин Гроссман? – проговорил высокий неожиданно тонким голосом. – А я был в погребе, искал…
– Разрешите войти? – нетерпеливо перебил его Густав.
– А… Да, пожалуйста. – Высокий посторонился.
Густав, откашлявшись и показательно вытерев ноги, хотя никакого коврика для этих целей на крыльце не было предусмотрено, шагнул за порог. Пробубнив что-то, он вопросительно посмотрел сперва на высокого, а затем на вешалку у двери, высокий суетливо кивнул – и Густав оставил на крючке цилиндр, недавно купленный в магазине Рихтера на Кнайпхоф.
– Проходите, господин… О, простите, я подниму! – Высокий неловким движением задел вешалку, с которой тотчас же свалилось и хозяйское пальто, и цилиндр Густава.
Густав, сохраняя остатки терпения, кивнул и вошел в просторную светлую комнату – эркер делал свое дело, – увешанную картинами. Не стремясь к избыточной точности, Густав оценил их количество в тридцать штук. Считать Густав любил деньги или предметы, на которые их было легко обменять, а эти картины… Он сильно сомневался, что даже с накопленной годами сноровкой смог бы выручить за них хотя бы по марке за штуку.
Высокий вошел вслед за Густавом, указал ему на диван, а сам присел на кресло-качалку в углу. Едва коснувшись тряпичного покрытия, Густав взорвался:
– Господин Клаус, я требую объяснений, почему вы вводите в заблуждение своих арендаторов!
– В заблуждение? – Высокий отстранился, впрочем, кресло-качалка спустя мгновение сделало его только ближе к Густаву. – О чем это вы? Каких арендаторов?
– Своих арендаторов в моем лице! – Густав со всего размаху хлопнул себя ладонью по груди, отчего «лице» прозвучало сбивчиво. – Почему вы не сообщили, что в квартиру, которую я снимаю, ведет еще и черный ход?
– Позвольте. – Высокий округлил глаза. – Но в квартире нет никакого…
– Тогда каким образом туда попадают посторонние?!
– Да откуда же…
– Вы, возможно, забыли, но я – деловой человек! – продолжал распаляться Густав. – У меня дома хранятся важные бумаги по торговым делам. Деньги, наконец! А еще у меня есть жена, которая теперь не может позволить себе совершать туалет, потому что, оказывается, в квартиру может попасть не пойми кто и застать ее…
– Ничего не понимаю! – Высокому удалось-таки перекричать Густава. – Какой такой не пойми кто? Откуда?
– Откуда? – Ответный крик высокого смутил Густава, отчего он сбавил тон голоса. – Это уж вам виднее. Вот только не далее как вчера вечером, вернувшись домой, я застал в гостиной незнакомого мужчину! И только я задал вопрос, как он как ни в чем не бывало вышел в коридор и исчез! Почему по моей квартире разгуливает посторонний?! И как он, черт возьми, в нее попал?!
– Помилуйте, господин Гроссман. – Высокий вытащил из складок халата платок и промокнул лоб. – В квартире нет никаких черных ходов.
– Так, значит, у него был ключ! Вы раздали ключи от квартиры всему Амалиенау?!
– Никому я не… Господин Гроссман, подскажите, а вы были в квартире один?
– Не понял.
– Ну… – Высокий снова вытер лоб и помедлил, словно подбирая слова. – Ваша жена была в тот момент дома?
Густав сжал зубы и примерно за пять секунд покраснел до состояния перезрелого томата.
– Господин Клаус, – грозно прошипел он. – На что это вы намекаете? Уж не на то ли, что моя жена путается с…
– Нет-нет! – Высокий замахал руками. – О боже. Конечно, нет! Так жены не было в квартире?
– Не было, черт подери!
– Значит, мужчину, кроме вас, больше никто не видел?
– Не видел, конечно!
– А вы не допускаете… – Высокий опять потянулся ко лбу, но, остановившись, повесил платок на подлокотник кресла, словно на сушилку. – Не допускаете, что вам просто показалось?
– Показалось?!
– У меня тоже, знаете ли, был случай… – Высокий противно захихикал. – Сижу я прямо тут, в кресле. И слышу: в погребе будто бы кто-то шагает. Женушка испугалась, говорит, пойди да проверь. Ну, я спускаюсь вниз – вроде никого. А тут р-р-раз – и под ноги выскакивает здоровенная крыса! Размером с кошку, представляете? И топает – ну практически как человек. Побежала она, значит, по лестнице, и тут жена наверху ка-а-ак заорет. Вылезаю и вижу: взобралась она на диван да пальцем тычет в крысу, убери, кричит, убери. Ну а я что, дверь открыл, а крыса тут же и прошмыгнула на улицу. Больше не возвращалась, хе-хе.
– Что за вздор?! При чем тут крыса? – Густав замер, пару раз глубоко вдохнул и выдохнул, а затем ровным голосом без малейшей интонации продолжил: – В общем, господин Клаус, если вы не можете объяснить произошедшего, я требую переселить нас в другое помещение! Хватит с нас потрясений!
– Но господин Гроссман. – Высокий взволнованно посмотрел на Густава. – У меня нет другой свободной квартиры. К тому же… Гхм… Памятуя о том, что вы деловой человек, позволю себе отметить, что в заключенном договоре нет пункта о…
– А-а-ах, в договоре? – Густав вскочил с дивана, да так резко, что, кажется, созданный им поток воздуха привел в движение кресло-качалку, – а может, и сам господин Клаус поспешил оттолкнуться. – Не хотите по-хорошему? Значит, я пойду в полицию! Найду на вас управу! Ишь что удумал, обдирать честных людей! Да это ни в какие ворота…
Последнюю фразу Густав договаривал уже на крыльце. Он попытался громко хлопнуть дверью, но она была настолько тяжела, что передвигалась со скоростью пожилой черепахи. И лишь закрыв ее, Густав вспомнил об оставленном в прихожей цилиндре. С минуту помялся в помыслах постучаться, но гордость победила, и, задрав подбородок, он спустился по ступеням и зашагал к ненавистной квартире.
* * *Солнце все так же светило, а Густав все так же не обращал на него внимания. На этот раз он решил пройти напрямик: аллея Луизы, на которой стоял дом Клауса, и Шреттерштрассе со съемной квартирой разделялись улицей Шиллера и двумя рядами еще не очень знакомых дворов. Однако, упершись в неожиданный забор, а потом со всего маху наступив в глубокую лужу, напоминавшую небольшое болотце, Густав позволил себе перейти с упоминания черта на слова погрубее и повернул обратно на мостовую. К источаемому в окружающий мир недовольству добавились хлюпающие ботинки да испачканные брючины, а встречные прохожие теперь расступались еще более охотливо.
Добредя до дома, Густав первым делом заглянул в продовольственную лавку, которую он держал за соседней с подъездом дверью. Клара переставляла товары – это была его идея, чтобы покупатели, по обыкновению подходя к привычным полкам, натыкались на что-то неожиданное, возбуждавшее непреодолимое желание немедля потратить лишние деньги. Жена, конечно, спросила, как все прошло с Клаусом, но Густав, немного остыв за обратный путь, только отмахнулся и поинтересовался выручкой. Цифры его обрадовали. Для порядка чмокнув жену в щеку, он сказал, что ненадолго зайдет в квартиру – говоря откровенно, ему нужно было в уборную, – а потом сможет сменить ее за прилавком.
На улице Густав все-таки одарил солнце своим вниманием: сощурился и поглядел на него сквозь ресницы. Со стороны могло показаться, что он слегка улыбнулся – впрочем, и не такие чудеса происходили с Густавом после удачного торгового дня. А ведь прошла только половина, и покупатели принесут им еще больше денежек!
Сидя в уборной, Густав думал о съемной квартире. Ему, конечно, очень повезло обзавестись таким жильем. Новый дом, большие окна в просторной гостиной, уютная спальня и кухня со всем необходимым. Иногда кажется, что даже с перебором: уж больно много всяких приспособлений досталось им от арендодателя, и это не считая того, что перевезла Клара. Ну и, конечно, лавка под боком – как у добротного торговца в лучшие времена. Но этот посторонний… Густав и сам подумывал о том, что незнакомец ему привиделся. Все-таки работал он довольно много и, по правде говоря, уставал, как собака… Все ради семьи, конечно, ради будущего, он ведь сам выбрал путь большого человека, а потому ежедневно стремился преумножать капитал. Так что, пожалуй, от переутомления мог принять за человека что-то иное… Но что? Свою тень? А у тени бывают черты лица? Усы? Нелепая одежда, не похожая ни на один предмет из гардероба Густава? Странное, конечно, дело, но раз Клаус так уверенно говорит, что никакого потайного входа нет…
Густав тщательно вымыл руки и уже собирался выйти в подъезд, но в коридоре зацепился взглядом за приоткрытую дверь в гостиную. Небольшую щель, вероятно, оставил он сам, когда выбегал к Клаусу – не похоже на Густава, но, бывает, поспешил, – а вот за дверью как будто бы недоставало света. Помедлив, Густав все-таки заглянул в комнату. И обомлел.
Помещение, которое он увидел, не было его гостиной. Вернее, было ей только отчасти – ровно наполовину, потому что ровно посередине теперь находилась глухая стена. Два из четырех окон, если они все еще существовали, остались за ней, отчего в комнате и правда стало темнее.
Густав, силясь произнести хоть что-то, открывал рот, как выброшенный на Куршскую косу сарган. От вытянул вперед руку и медленно, чуть не на цыпочках, подошел к стене. Конечно, он ожидал, что рука ни во что не упрется и ужасное наваждение рассеется, как пропал накануне тот, посторонний… Но нет, пальцы дотронулись до твердой – деревянной, кирпичной, каменной или какой-то еще, черт ее дери, – но самой настоящей стены, да к тому же оклеенной нелепыми бежевыми обоями с узорами, напоминавшими безвкусные фамильные гербы. Густав протер глаза – стена, разумеется, никуда не делась – и молча вышел из комнаты в коридор. Надел ботинки, которые он с полчаса назад промочил в луже, и вышел за дверь. Спустился на улицу. Снова сощурился на солнце. И заорал.
Сперва он не вкладывал в крик никакой мысли – просто растягивал все гласные на перебор. Затем, когда перепуганная жена выбежала из лавки и осторожно обняла его со спины, он начал плеваться отрывистыми словами: