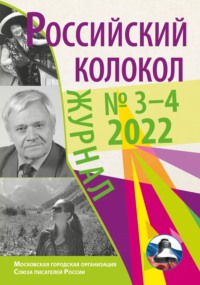Полная версия
Журнал «Юность» №10/2024
Кордебалет Большого театра, как она называла юных клиентов развивающего центра, наконец начал выходить к родителям в коридор. На цыпочках, взмахивая руками, артистично рыча, пища и вскрикивая…
– Занимался очень хорошо, – резюмирует терапистка, как тут называют педагогов. – Учились инструкциям из двух действий. Например, «Закрой дверь и выключи свет!». Вы дома повторяйте, пожалуйста. На горшок, конечно, не садится, но ручки моет теперь очень хорошо…
Она кивает и думает: заметит ли что-нибудь терапистка? А вдруг сделает выводы? Может, заранее оправдаться, что она вообще-то не пьет? Или это будет глупо?
– Ой! Вы только посмотрите! – вытаскивает ее голос терапистки из очередного прослушивания радио. – Он сам надел обувь! Впервые сам надел обувь. Дай пять! Маркуша, ты молодец!
– Пойдем! – велит матери Маркуша, не обратив внимания на похвалу.
А у нее выступили на глазах слезы, как, впрочем, бывает, если она выпьет.
Наталия Сумарокова

Родилась в 1984 году в Москве, живет в Королеве. По образованию математик-инженер, окончила факультет «Прикладная математика» в МАИ. Работает в ИТ-сфере. Читать любит с детства, а писать – с недавнего времени. Окончила курсы в Школе писательского мастерства Band.
Немузон
Написать…
Написать что-то…
Написать хоть что-то, слово за словом, не вдаваясь в смысл, чтобы расписаться и…
И ничего.
Антон резко потер лицо ладонями – спать хотелось жутко, глаза резал свет монитора, но до полуночи и сдачи текста осталось четыре часа пятьдесят восемь минут. Он вовсе не жаворонок и привык ложиться тогда, когда некоторые уже вставали, но пятый день подряд поднимал себя на рассвете, чтобы поймать музу до того, как релиз-менеджер поймает его самого.
Муза не любила рассветы.
Результатом героического поведения стал только недосып, туман в голове и ненависть к текстовому редактору.
А может, муза не любила Антона? Как и Рита…
Он вздохнул. Наивная мечта стать писателем была так приятна до того, как он предпринял реальные шаги к ее осуществлению. «Нет несбывающихся мечт, есть только ленивые жопы!» – с абсолютной уверенностью вещал популярный блогер-гуру-не-пойми-чего, на тренинг которого его затащила подруга. Мм… ладно, никакая не подруга, увы… Коллега. Рита. Которой, видимо, надоело в обеденный перерыв выслушивать нытье Антона о том, что в гробу он видал ваши кейсы и баги, все это скучно, пошло, то ли дело создавать росчерком пера новые волшебные миры…
Перо, что ли, купить?
После того тренинга Антон настолько поверил в себя, что записался на другой курс, профильный, узконаправленный, который должен был привести его к заветной цели – написать Великий Роман.
Антон был неглуп и самокритичен. И понимал, что начинать надо с малого, лучше с рассказов. Слов меньше. Всего-то восемь тысяч знаков. Да он себе техзадания длиннее писал!
Вот и писал бы дальше…
Мигающий курсор на белом экранном листе гипнотизировал… Куда делись полчаса? Антон с досадой отшвырнул мышку, случайно задев рукой один из проводов, воткнутых в пилот на столе: вспыхнула ярко-синяя искра и монитор, а с ним и комната – все погрузилось во тьму. Вместе с сознанием Антона.
* * *– В ухо ему!
– В нос, нос, так смешнее.
– Отдай!
Ай! Антон вздрогнул от чувствительного укола в ухо и открыл глаза. Закрыл. Где-то он читал, что недостаток сна влияет на мозг так же, как и алкоголь. Не врали. Может, лучше позвонить в скорую и сдаться на милость психиатров самому, чем по принуждению?
Антон снова открыл глаза, переводя взгляд то на одну, то на другую мохнатую рожицу с торчащими изо лба рожками.
– Ну чо, здарова! – шмыгнула пятачком левая, бурая и потолще.
– Какое «здарова», если он… того! – Второй черт, худее и прилизанней, серой масти, отпихнул первого. – Пусти, я ему объясню.
– Не-не, мне все понятно. – Антон в миролюбивом жесте поднял руки, пытаясь хоть что-то рассмотреть в тумане. – Ребят, мне бы позвонить.
– Слышь, он, реально, не догоняет…
Антон сидел на полу неизвестно где, скрестив по-турецки ноги и держась за голову, пытаясь уложить в нее происходящее. Он умер. И не попал в рай. Нет, он никогда не считал себя праведником, но разве быть обычным неплохим человеком недостаточно?
– Почему ад? – спросил он у серой морды, та казалась ему чуть умнее и участливей.
– Ад! Слышь, во куда он собрался! – Бурый ткнул локтем напарника и заливисто захрюкал.
– Ад еще заслужить надо было, как и рай, – строго ответил серый. – Ты в серой зоне, как неопределившийся.
– И что мне теперь делать? – Антон привык сразу разбираться с непонятными условиями задачи.
– О, пошли правильные вопросы, – одобрительно кивнул серый. – Хорошие писатели после смерти становятся музами, а плохие – немузонами.
– Но я не писатель!
– А про яблоко ты написал? – вкрадчиво спросил серый.
Антон вспомнил один из немногих удавшихся ему рассказов и кивнул:
– Ну, я…
– Вот. А про кого ты там писал? – Серый поднял вверх брови и мохнатый кривоватый палец, задержав многозначительную паузу. – Ага, дошло, – довольно усмехнулся он.
– Но это же был просто… – Антон замялся, подбирая слово, – ретеллинг… Так часто делают.
– Часто, ага, а мы таких на карандаш берем. Вот этот, – поддакивая, кивнул бурый, показывая ему простой карандаш с ластиком на конце, которым его, похоже, разбудили.
Антон машинально потер ухо.
– И что теперь?
– Наряды получаю я как старший. – Серый указательным пальцем поправил очки без стекол, на что бурый закатил глаза. – И распределяю по группе. Первое время на задания будем ходить вместе.
* * *«Роман Алексеевич Карташев. Врач-хирург. Начинающий писатель. Пишет сатирические рассказы о буднях военврача. Готовится к литературному конкурсу. Рекомендуемый тип воздействия – средний, с периодом два раза в месяц».
Похоже, у него появился постоянный клиент. Роман Алексеевич, что же тебе во врачах не сиделось? Там же адреналина через край, к чему дополнительные эмоциональные качели? Ладно. Антон шевельнул пальцами, и карточка наряда исчезла.
Сначала ему было жалко своих «клиентов». Он прекрасно помнил то выматывающее разум и нервы состояние бессилия, которое накатывало на него самого перед каждым текстом. Но помнил и другое.
Когда отчаяние доходило до предела, внутри будто щелкало. И в самый неподходящий момент начинали приходить идеи – посреди совещания или сдачи релиза, – и тогда он хватался за телефон, чтобы не забыть, не обидеть капризную музу. А все, что не давало немедленно сесть за текст, – ужасно раздражало. Как только появлялось время, бросался писать. Перечитывать. Переписывать. Выкидывать лишнее, будто отрезая по кусочку от себя самого.
И в какой-то момент наступало чувство легкой приятной пустоты в голове.
Ради этого писательского кайфа Антон был готов и к неуверенности в себе, и к приступам самобичевания – периоды ступора случались часто и были длиннее писательских. Но кайф того стоил. А более того – удивление и восторг, который он испытывал, когда кто-то читал его рассказ.
А теперь он немузон. И его задача гасить этот восторг.
Работа оказалась несложной. Шепнуть неприятных слов, отвлечь, навеять плохое воспоминание, напустить сонливости в глаза, вызвать перепад напряжения в сети, чтобы написанное исчезло, не сохранившись. Телефонный звонок не вовремя. Понос у собаки. Понос у ребенка. Вынеси мусор. Где обещанный отчет? Кран сорвать. Мелочь за мелочью расшатать нервы, добавить парочку демотиваторов – и вуаля!
Начинающий писатель, урвавший у реальной жизни полчаса-час, вместо того чтобы записать все, что целый день яркими образами мелькало у него в голове, грустным тушканчиком сидит перед пустым листом на мониторе. Чистая работа.
Антона даже пару раз похвалили: бестелесный голос, раздававшийся откуда-то сверху, из постоянно клубящегося тумана, в котором он находился между очередными заданиями.
В этот раз дело шло туго. Врач, привыкший к недосыпам и к напряженной работе в три смены, лупил по клавиатуре, вливая в себя кофе кружку за кружкой. Антон принюхался. Американо, тройной крепости. У неокрепшего ума вызовет приступ гипертонии, у непривычного сердца – тахикардию, а этот только раззадорился. И ведь текст получается даже совсем ничего. Антон на минутку отвлекся, зачитавшись. Если не мешать, а то и слегка помочь, получится вполне стоящая вещь. Не на уровне литературной премии, но достаточном, чтобы читатель улыбнулся и задумался и, на некоторое время вырвавшись из рутины, пережил кусочек иной жизни.
Антон вздохнул и щелкнул пальцами. Врач, отмахиваясь от комара, задел кружку с кофе, заливая системный блок. Не обращая внимания на вопли, Антон закрыл глаза, сосредоточился, подтер историю автосохранения, подумав, для верности еще и подогрел центральный процессор. Все.
Врач сидел, невидяще уставившись в погасший монитор.
– Выведен из строя на неделю, – прозвучал довольный голос за спиной Антона. Серый черт сделал пометку в карточке. – Ну что, следующего?
– Давай, – ответил Антон.
Чувство омерзения к себе уже стало привычным.
– Заскучал, ага, понимаю. – Серый почесал карандашом за ухом. – Сменим-ка профиль. Держи, тебе понравится. – Он, хихикая, растворился в воздухе.
Антон мельком взглянул на появившуюся в руке карточку. Потом вчитался.
«Иванова Маргарита Сергеевна. Аналитик. Талант к рукоделию. Хочет восстановить навыки. Рекомендуемый тип воздействия – интенсивный, однократный».
Рита?
* * *Рита распутывала длинную нитку непослушными, отвыкшими пальцами. Как давно она не плела. Ну же, тихонечко… Все. Узел. Снова!
– Ничего не выйдет, – прошептала она, сдерживая слезы обиды. – Зря затеяла. К тому, что предано, не вернуться.
Лет двадцать назад плетение давалось ей легко. Она сама придумывала схемы, тщательно прорисовывая их в школьной тетрадке. Потом искала бисер – лучше чешский или японский, он равномерно прокрашен и откалиброван. Нить, тончайшую леску, за которой Рита ездила на другой конец города. И за тонкими иглами, которые надо было держать уверенно, но не слишком сжимая, чтобы не погнуть и не сломать.
Она хотела поступать в художку, на ремесла, но… «Это не работа! Сначала получи нормальную профессию, а потом делай что хочешь!» Слова матери были правильные, Рита и сама это понимала. Но отчего было так уныло и тошно внутри?
После того разговора иголка была сломана, нитка скатана в злой спутанный комок, а пакетики с бисером отправлены в коробку под кровать. При переезде Рита не решилась ее выкинуть и, не раскрывая, сунула в коробку побольше, с надписью «Разное».
И вот, достала. Перебрала пакетики с ярким, блестящим бисером. Расстелила рабочий коврик, прижав по углам, чтобы не скатывался. Разместила вокруг него инструменты: сверху лоточки для бисера, ножницы, нитку и иглы – справа, под рабочую руку. Немного поколебавшись, выложила на коврик колье, которое тогда бросила. Раскрыла слегка пожелтевшую от времени тетрадку, нашла нужную схему, насыпала в лоточки бисер, взяла неловкими пальцами иголку и задумалась, слегка поглаживая пальцами левой руки незаконченное украшение. Кивнула: делать с начала, и набрала на нить первую порцию бисерин…
* * *– Все зря, – услышал Антон шепот Риты и подошел поближе.
Расстроена. Он тыльной стороной ладони легонько коснулся ее щеки. Конечно, она его не увидит, не почувствует, но кое-что он все-таки может.
Антон огляделся, взял второй стул и присел рядом. Положив руки ей на плечи, он легкими поглаживающими движениями снял напряжение, а потом стал вытаскивать из памяти застарелую обиду на мать. Девушка слегка откинулась назад и, закрыв глаза, тихо плакала.
– Это хорошо, – шептал ей приятный странно знакомый голос. – Выплачь, прости и себя, и ее, начни все сначала.
Рита вздохнула, вытерла слезы, немного подышала, успокаиваясь, прислушиваясь к ощущению трепещущей легкости в груди. Как давно она этого не испытывала – предчувствия, что все получится. Она потянулась за ножничками, отрезала спутанную нить, оставшийся короткий, неудобный для работы конец вдела в иголку и аккуратными движениями закрепила, отрезала лишнее, приладила новую нить и бисеринку за бисеринкой возобновила плетение.
Антон с мягкой улыбкой смотрел то на тонкие пальцы, сжимающие иглу, то на шепчущие губы и удивлялся возникающему в нем нежному чувству.
* * *– Поздравляю с первым провалом, – съехидничал появившийся в комнате черт. – Исправлять будешь?
– Нет.
– Ладно, – махнул лапкой серый. – Отмечу, что больше не наш клиент. Можно разок и поблажку сделать. Но помни, ты – немузон, а не муза! Передохни, меня наверх вызывают, что-то у них там не срослось.
– Из-за Риты? – вскинулся Антон.
– Нет, вряд ли, – рассеянно почесал за ухом черт, растворяясь в тумане.
* * *– Ошибка? – Антон растерянно смотрел на мявшихся перед ним чертей. – Я могу ожить? Но ведь прошло время, меня же?..
– Не-не, технически все чисто будет, не парься, – успокоил его бурый. – Про пространственно-временной континуум слыхал?
– Ну…
– Гну. Моя специализация. Поинтереснее будет, – бурый стрельнул глазами, – чем «я – насяльника, распределяю наряды», – передразнил он серого, который скрестил руки на груди и отвернулся.
– И как мне?..
– Уволиться, – поджав губы, ответил серый. – Вот бланк. – Он протянул Антону лист плотной бумаги. – Заявление стандартное, только подписать.
– Слышь, Антоха, мож, останешься? Ты хорош, – с надеждой спросил бурый.
– А у меня есть выбор? – удивился Антон.
– Конечно! У вас, людей, выбор есть гораздо чаще, чем вы думаете.
– Возвращайте.
Как только Антон поставил точку в конце подписи, бланк исчез из его рук.
– Ай! – схватился он за ухо, в которое бурый неожиданно воткнул карандаш.
Ох-х… Антон очнулся на полу, потирая ноющее ухо. Посмотрел на часы-браслет: девятнадцать сорок восемь, дата та же, минут десять был в отключке. Еще успеет записать этот странный сон. Он поднялся и уселся за стол. «Надо же, комп не сгорел, даже пустой лист сохранен. Халтуришь, немузон», – рассмеялся Антон собственной шутке и написал первую фразу: «У вас, людей, выбор есть гораздо чаще, чем вы думаете». Задумался. Улыбнулся и кивнул. Взял мобильный, нашел нужный номер и быстро, чтобы не передумать, нажал кнопку вызова.
– Алло, хм, Рита? Это Антон, да. Узнала? – спросил он с нервным смешком. – Хм, нет, не по работе… Рита, я понимаю, что неожиданно, но может, ты согласишься сходить куда-нибудь сегодня? – Он напряжено вслушивался в повисшую паузу. – Да? Да!
Александр Сордо

Петербургский литератор родом из глубинки. Родился в 1998 году в Псковской области. По образованию инженер-биотехнолог. Имеет магистерскую степень по биоинженерии и биомедицине.
Публиковался в изданиях «Рассказы», «Без цензуры. Unzensiert», «Опустошитель», «Уральский следопыт», «DARKER», антологиях «Metronomicon: СПЕЦБИОТЕХ», «Будущему – верить!» и «Депрессия. Торг. Писательство». Член Ассоциации авторов хоррора. Участник литературной резиденции «Обсерватория фантастики» («Архипелаг 2024»).
С июня 2021 года – главный редактор литературного сообщества «Большой проигрыватель».
Пишет в основном в жанрах научной фантастики и хоррора, но также котирует юмор и магический реализм.
Шрифтом Брайля
Софиты бьют в глаза. Глухая, неестественная тишина висит над всем концертным залом. Рябь теней стелется по зрительским рядам. Руки уже перестали дрожать, и я кладу их на гитарный гриф.
Я чувствую, как бьется кровь в маленьких капиллярах подушечек пальцев. Чувствую удары сердца, размеренные, как стук метронома. Чувствую жар и холод, страх и восторг и натянутое в зале напряжение.
Все, что мне остается, – закрыть глаза и начать играть.
* * *Три месяца назад я и понятия не имел, что буду выступать на самом большом академическом концерте в Большом зале Московской консерватории. Для музыканта вроде меня это почти Голливуд. И хотя все давно хвалили мою технику, манеру, талант и слух, я думал, что лишь через пару лет дорасту до такого выступления. Поэтому, когда меня пригласили, взлетел на седьмое небо незамедлительно.
Но судьба оказалась слепа. Невесть откуда взявшаяся в столице вспышка эпидемического паротита докатилась и до меня. Две недели я умирал в больнице, распухший и прибитый к кровати. Злился, что не могу готовиться к концерту. А потом меня настигли осложнения.
Осложнением стала потеря слуха – а для музыканта вроде меня это почти приговор. Оглох я не полностью, но врачам приходилось говорить со мной втрое громче. Теперь о том, чтобы уловить тончайшую настройку струн или подвести точно выверенное плавное крещендо, не могло быть и речи.
Врачи сказали, что глухота может быть временной и в течение месяца слух может восстановиться. Прикинув так и этак, я написал в консерваторию, сказал организаторам концерта, что мое участие под вопросом и пусть на всякий случай ищут замену, а потом уехал на родину под Смоленск – к маме и дедушке. Раз врачи все равно не могут помочь, решил я, пусть помогают стены.
Самочувствие почти восстановилось, слабость постепенно отпускала. Два раза в день я брал в руки гитару и пытался играть, но спустя пять минут обессиленно откладывал ее. Потом сидел на колченогом стуле, глядел в пол, вцепившись в волосы, и слезы капали на облезлый ковер с кончика моего носа.
* * *Мама ухаживала за больным дедушкой. Он уже не ходил, стал забывать слова. Иногда не узнавал маму, иногда – меня. В нем виднелся лишь бледный призрак человека, который когда-то растил меня наравне с матерью. Я прислонялся ухом к его губам, чтобы расслышать.
– Володя… – бормотал он. – Паша…
– Я Леша. Леша, дедушка, – терпеливо отвечал я, беря его за руку. – Я здесь.
– Слушай… Слушай…
Я слушал его, но он так ни разу и не смог продолжить фразу. Лишь повторял это слово.
Ночами мне не спалось. Дедушке часто становилось плохо, по ночам мы с мамой дежурили у его кровати, но даже в мамину «смену» мне подолгу не удавалось сомкнуть глаз. Все время мерещился стук.
Я вспоминал, как в детстве просыпался по выходным, ночуя у дедушки, от ритмичного стука. Тук-тук-тук. Тук-тук. Шорох, тук. Тук-тук.
За столом в гостиной дедушка занимался каким-то загадочным неизвестным ремеслом. Не знаю, откуда он брал эти стопки толстой желтоватой бумаги, но ею были забиты все шкафы в гостиной. Он вкладывал лист в железную рамку с ячейками и выгравированными внутри точками и водил по ней затупленным шилом – он называл его грифелем. Находил ячейку, нашаривал одну из шести точек и – тук-тук – вбивал в нее грифель. Плотная, похожая на картон бумага вспучивалась бугорком. В сочетании точек на шести полях крылись буквы, которые я не мог прочесть.
Я столько лет прожил в доме деда и до сих пор не узнал, что же он все-таки писал шрифтом Брайля по ночам, когда я был маленьким.
* * *Помню, когда учился в школе в первую смену, приходил после уроков к дедушке. Иногда я заставал его с аккордеоном в руках. Один в квартире, растягивая мех и качая в такт головой, он играл старые вальсы и военные песни. «На сопках Маньчжурии», «Подмосковные вечера», «На прекрасном голубом Дунае»… Не раз я видел, как блестят слезы, рассыпаясь по его лицу, иссеченному морщинами и шрамами.
Услышав, как я хлопаю дверью, он вскидывал голову, прислушиваясь, – в этот момент он был похож на сторожевого пса, заслышавшего в отдалении шаги. Он сторожил свой покой и свой мир. И лишь в ответ на мое приветствие расслаблялся и улыбался, кивая мимо меня. Его незрячие глаза в россыпи шрамов глядели в пустоту.
Он спешно скидывал ремень, осторожно ставил аккордеон на комод и протягивал руку в сторону моих шагов. Я жал ее и морщился от боли. Хватка у него всегда была стальной.
Мне всегда нравилось смотреть, как дедушка играет. Его руки качали мех аккордеона, наполнявший комнату музыкой, как кузнечный мех наполняет пламенем горн. Я глядел на его лицо, сосредоточенно хмурившееся, и проникался трепетом и восторгом. Музыка манила меня, но аккордеон казался громоздким и слишком неказистым. Мне хотелось чего-то более легкого… ну, и модного, чего уж скрывать. И я все же выпросил в третьем классе у родителей гитару.
Меня записали в музыкальную школу. Дед помогал мне заниматься. Сам он гитару в руках не держал, но всегда слушал мою игру и безошибочно улавливал любую фальшь. Помогал с динамикой: где нужно сыграть тихонько, а где повести крещендо, какой фрагмент отыграть бодро и отрывисто, а какой меланхолично и мягко. Иногда мы спорили. Так креп мой талант и вытачивалась манера. Музыкальную школу я окончил на отлично и заниматься не бросил. Так начинался путь, по которому я сейчас иду.
Еще в школе я любил проводить вечера у дедушки. Как бы банально это ни звучало, он научил меня играть в шахматы. И какие у него были шахматы! Специальные. Резные деревянные фигуры – крупные, со стержнем в основании, чтобы вставлять в отверстия в доске. Дедушка обшаривал доску, чтобы оценить позицию, и закрепленные таким образом фигуры оставались на своих местах.
Вот только в этой игре мне не так везло. Я неизменно проигрывал. Когда был маленький, все время обижался, потом просто расстраивался, потом – слегка досадовал.
– Проигрываешь – значит учишься, – улыбался дед.
Сначала я вообще не понимал логики в этой фразе. Потом понял, что надо искать причины проигрышей. Потребовалось немало лет, чтобы осознать, что «я тупой и это не лечится» – не та причина. Зато внимательнее оглядывая доску и продумывая последствия ходов, я добился того, что свел пару партий с дедушкой вничью.
Его улыбка в тот день наполнила комнату счастьем так же, как меха аккордеона наполняли ее музыкой. Ни раны, ни возраст не могли скрыть красоты этого счастливого лица, наполненного волей и любовью.
Второй раз такое выражение я видел, когда сообщил ему, что поступил в консерваторию. Это был последний раз, когда я видел его в полном здравии. Приехав спустя полгода, я заметил пыль на стоящем на комоде аккордеоне. Через год на нем висели штаны. Через полтора года наша шахматная партия закончилась, не начавшись. Дедушка забыл, как расставлять фигуры.
Тогда он плакал, а я старался держаться. Не знаю зачем.
* * *Подготовка к концерту шла ужасно. Пьеса не давалась, дедушка был плох, мама устала, сон все так же не шел. Поворочавшись пару ночей, я открыл шкаф гостиной, битком набитый тетрадями из брайлевской бумаги, сшитыми по двадцать–тридцать листов, и уселся переводить.
Расшифровка происходила по ночам во время моих дежурств. Пока мама спала, я доставал из шкафа наугад тетрадь и садился ее читать.
Сперва нашел азбуку Брайля в интернете. Запомнил значения сочетаний точек. Точка слева вверху – «а». Две точки слева (вверху и посередине) – «б». Самая вредная фигура тетриса – «в». И так далее. Первую страницу я расковыривал по буквам. Мало-помалу стал их запоминать. К концу второй страницы мог читать, не сверяясь со шпаргалкой, хоть и не очень бегло.
* * *Дело было в войну. Мне двенадцать лет стукнуло. Человек семь мальчишек нас было или восемь… Раньше думал, на всю жизнь запомню – а нет, с возрастом стал забывать детали. Больше полувека прошло, не шутка.
После заката надо было еду в лес партизанам отнести, нас иногда посылали. Гитлеровцы часто поодаль ездили патрулями. Сорок второй, что ли, год это был. До контрнаступления. Взрослых бы поймали, допрашивали, а с мальчишек что взять? На озеро купаться пошли, взяли в узелки что мамка с собой завернула, да и все. Или коров пасти в поле уходили.
Коров в поле не пасли на самом деле. Мины там были, наши при отступлении оставили. Краем того поля мы на партизанскую тропу и ходили. Пока ее в один день не раскрыли.
Партизан гнали, гнали и нас. Немцы ехали на грузовике и стреляли вслед, кора на соснах трещала, вокруг свистело и бахало – страшно было до безумия. Я никогда в жизни так не бегал. Не думал, что можно вообще бежать с такой скоростью. Когда просека кончилась, поздно было тормозить. Я лишь свернул обратно к деревьям, пробежав по краю минного поля.
Когда сзади полетела земля и обдало жаром спину, я понял, что обогнал взрыв. Только оказалось, не один я тогда выскочил на то поле. Уже забегая в лес, обернулся – и следующая мина посекла не только грузовик с немцами, но и мои глаза.
Мальчишки-друзья меня доволокли все же до деревни. Долго выхаживали. Тяжело было смириться с тем, что я теперь не вижу. Пришлось привыкать. Мне долго-долго снились сны. Цветные, яркие. И сейчас иногда снятся такие, но редко. Очень давно я не видел снов, Леша.