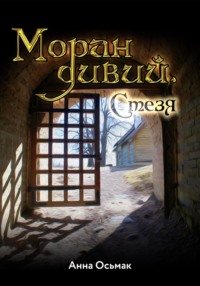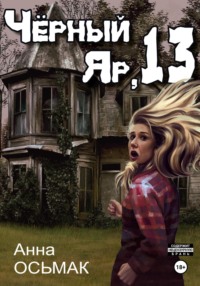Полная версия
Моран дивий. Книга вторая. Реноста
– Князь дубрежей Прилут, сын Свилича, разумный муж, – отозвался князь-батюшка после небольшой паузы. – Мир между братьями – великое благо. Это погибель для их врагов, это тучные нивы, сытые люди, многия чада. Отчего бы не позабыть нам распри ради сих благ?
Думные настороженно поджали губы.
– Кого же прочит Прилут в наш род?
– У князя дубрежского есть родич из Угрицкого рода – древнего, славного, княжеского. Он вернулся на землю предков, чтобы вновь выросли её города, чтобы дать ей жизнь и вернуть прежнюю славу. Люди зовут его Радимом. Он просит у сулемов невесту.
Думные не спросили, не возразили, не шелохнулись. Сидели, поникнув бородами в пол, словно приговор им оглашали.
Посадник зыркнул глазами по сторонам, огладил пегую бороду, сдвинул лохматые брови:
– Для чего же он отстраивает землю свою, коли прочится в род наших князей? Его жизнь и его родина отныне – Суломань. Её ему и поднимать…
Ой и напрасно, дядько Могута, ты брови хмуришь, не обманет никого твой строгий вид. Уж все на соборе ведают и дело, с коим послы пожаловали, и исход его. Со всеми княгиня заранее беседовала, всем объяснила, всякому негодованию дала время остыть. На соборе склоки и сомнения ей были ни к чему. Не приведи, Сурожь, из-за упёртости кого-либо из думных упустить божий дар – посольство мира.
Но традиция требовала обговорить дело, закрепляя решение в сознании людей, вплетая его в полотно божественного промысла. Вот и обговаривали…
– Мой князь просит нижайше мудрых сулемов отпустить назначенную ими невесту в его род, – сотник улыбнулся, сверкнув белыми зубами, совершенно уверенный в успехе предприятия.
А он хорош, помстилось мне. Высокий, мощный. Прямой нос, тёмные пряди, падающие на лоб, глаза прищуривает смешливо, отчего в углах их тонкие лучики… Ох, до чего ж я девка легкомысленная: третьего дня лишь о Миро мечтала, ныне уж и не вспоминаю о нём. Сотника разглядываю. На губы его засмотрелась в жёсткой щетине бороды… Что бы это значило? Оборони, щур, от желаний суетных… А ведь губы его что-то говорят. Что говорят?
– … княжну Рысю Вестимировну.
Что? Что это на меня все так таращатся?
Большуха, не сумевшая скрыть удивления, медленно перевела дух.
– Ты уверен, сотник, что выбор твой будет одобрен князем Радимом?
Сотник поднялся со своего места, поклонился присутствующим:
– Уверен, добрая княгиня, – и вместе с ближниками вышел за дверь.
Следом выскользнула и я, оставив собор переваривать произошедшее.
– Ты назвал моё имя? – догнав сотника, коснулась его локтя, попыталась заглянуть в глаза.
– Решил послушать тебя, княжна, – сказал он, – ты была так трогательна в стремлении к самопожертвованию. Преступно отвергать подобные порывы…
– Смеёшься надо мной? – речи его были странны. Вроде по-полянски говорит, а всё же как-то иначе.
Он покачал головой.
– Не меня ты послушал. Мору ты послушал. Что она тебе сказала? Почему ты изменил решение?
– Много будешь знать, плохо будешь спать, рыжик, – стряхнув мою руку с локтя, он загремел коваными сапогами по ступеням красного крыльца.
* * *
Многия чады породила Сурожь плодородная от супруга своего вечного – государя Сведеца. И до сей поры рождает. Не старится чрево её, не убывает лад супружеский – всё так же, как и на заре времён, обнимает нежно небо светлое землю красную, лаская светом, оплодотворяя дождём – и нет, мнится, силы той, что разорвала бы эти объятия…
Но было время невестино, и было время жениховства. И сватался к юной Сурожи, не украшенной ещё плодами материнства, не только Сведец храбрый, но и тёмный Истола. Отвернулась Сурожь от страсти его безумной, скользнула равнодушным взглядом по дарам бесценным, отвела лёгкой десницей душный морок его желаний. Отвергнутый, затаил он злобу чёрную да обиду горькую, стал выжидать срока для мести.
А у божественных супругов родился тем временем первенец – Варуна ясный. Озарил он жизнь отца и матери своих, воссиял радостно: улыбнулся Сведец, расцвела Сурожь и стала ещё прекраснее.
Сын рос – достиг юности, вступил в пору зрелости. Отправился искать свою Варуницу по белу свету и… попал в сети Истолы. Заманил Премудрый Змей ясного бога к себе, обещав поведети дочь свою юную. И не обманул. Вышла к Варуне дева белоликая да белокосая, укутанная в печаль и тёмные одежды. И вложил Истола руку дочери в руку Варуны, и велел ей поцеловать наречённого. Но как только коснулись губы девы губ влюблённого бога, упал сын Сурожи замертво и погас свет солнечный в новорождённом мире.
Взревел гром боли и ярости Сведецевой, постарела и поседела, обмерла Сурожь. Заплакала белокосая Макона, ибо и ей приглянулся ясный сокол, не желала она его погибели. Но как исправить непоправимое? Как возродить умершее? То не ведомо даже богам…
И решилась дочь Истолы на отчаянный шаг. Втайне от отца, ликующего свершившимся отмщением, Макона замкнула временнУю бесконечность в круг и закрепила концы его страданием земным, небесным и своим. Нет той скрепы надёжней, никто не в силах разорвать бесконечно повторяющийся цикл: Варуна рождается, Варуна взрослеет, Варуна умирает. И всё вокруг него радуется его пришествию в мир и всё оплакивает его уход. И всё на свете живёт в кольце замкнутого времени – боги, земля, небо… И люди. Которые рождаются, взрослеют и умирают. Чтобы в своём потомстве вновь и вновь повторять тот же Варунов оборот, чтобы вновь и вновь любить, страдать, совершать одни и те же ошибки, что и многие поколения до них, не в силах разомкнуть кольцо, не в силах что-либо изменить…
А печальная Макона бродит по земле одна, навечно разведённая с любимым. Ходит за ним по пятам, надеясь догнать, коснуться золотых кудрей, согреть зябкие ладони в его горячих руках. Да только обречена она вечно опаздывать, обречена лишь на излёте дня зацепить взглядом всплеск его удаляющегося за горизонт червоного плаща.
Встретиться они могут только в Варуновы ночи, на берегу белого Студенца, где сходятся день и ночь, свет и тьма. И встреча та бывает прекрасна – полна любви и неги. По всему миру разливается благодать и ничто живое не способно в это время устоять против колдовства божественной любви…
Именно в светлые, пьяные Варуновы ночи мы прибудем в Дубреж, где остановимся ненадолго перед дорогой в пустынные Угрицкие земли. Сотник сказал, в Зборуч отправимся вверх по Ветлуге.
Что ждёт меня в Дубреже? Уж точно не объятия лады, не варунов костёр, не хоровод девичий. Ждут меня враги давние, злейшие кровники, волей небесных прях ставшие моими родичами. Как встретят они меня? Как встретят их пращуры? Примут ли? Позабудут ли, простят ли кровь внуков своих, пролитую руками моего народа?
Ох, щур, помоги мне, щур…
* * *
К вечеру второго дня наш обоз одолел с божьей помощью переправу через один из рукавов Ветлуги – с пойменной стороны на нагорную.
По-весеннему полноводная чёрная река зыбилась недовольно вокруг мостовых быков, обнося их редкими пористыми льдинами. Мост – единственно возможное сообщение с Болонью – строили здесь с учётом половодий, но всё же порой Ветлуга разбухала так, что становился бревенчатый накат моста одиноким островом посреди могучего ледяного разлива. Нынешняя малоснежная зима не раздоилась должной глубиной – лошади добрели до моста по колено в воде, пронеся на себе поджимающих ноги всадников да протащив вязнущие в течении телеги, не замочив особо поклажи.
Обонь пол, взобравшись на крутояр, мы оглядели широкую яругу с сулемскими селищами. Рассмотреть их можно было только отсюда – со стороны Болони. А от враждебного заката они умело прятались за белыми каменистыми осыпями, перелесками да зелёными холмами. Вон и Нырища, где мы подумывали заночевать, через перелесок – Силяжь, Байстрюковы хутора спрятались в лядине, Курицын брод притулился у речки-журчалки…
Падающее за дальние холмы солнце красило белые камни и курящиеся дымки тёплым золотом. Мир казался тихим и уютным. Невесомым. Умиротворённым. Увижу ли я эти места ещё когда-нибудь?
– Вряд ли, – буркнула Вежица, останавливая рядом со мной своего старого мерина. Хытря высунула голову из пазухи хозяйки, оглядела окрестности, чихнула на солнце и спряталась снова.
Мора пристроилась к нашему поезду в день отъезда. Просто зашагала за одной из обозных телег, возникнув из ниоткуда, со своим узелком и кошкой за пазухой, даже не подумав испросить на это позволения. Заметив новоявленного походника, сотник хмуро распорядился выдать старухе заводного мерина. А она и не отказалась.
– Ты чего тут, бабка Вежица? – поинтересовалась я недоумённо.
– Надо, стал быть, – отрезала та.
Показалась она мне какой-то чужой, неприветливой. Совсем не такой, каковой знала её в Сунеженой истопке. Поэтому я подумала и не стала расспрашивать о разговоре с сотником. А ведь страсть как хотелось узнать – отчего же он после того переменил решение? Почему назвал невестой меня вместо Заряны?
Я поёрзала в седле, стараясь примостить свои натёртые долгим конным переходом телеса поудобнее, почесала нос в раздумье… Может, отойдёт ещё бабка? Взглянет на меня поласковей? Тогда и спрошу.
Тронув бока своей кобылки пятками, я помыкнула её вниз, с откоса, к тёплым избам гостерадных Нырищ.
А море я ничего не ответила. Пусть себе каркает, старая карга. Никто ж не заставляет тому карканью верить …
* * *
– Ети ж тя задери волохатого! Зенки заведёть да и прёть по ежам, лихоманка проклятая! – ругалась басом крепкощёкая девка, опрокинутая Лиходеевым гнедым у самых ворот крепкого тына Нырищ. Плюхатясь в глубокой мутной луже посреди въезжей, пугая верещащих уток, она пыталась выбраться на берег, увязая в жирной грязи.
Лиходей хохотал до слёз, хватаясь за бока. Кмети, посмеиваясь, объезжали лужу.
– На кой ляд под коняку бросаешься, дурында?
– Жениха, мабуть, ловила, утица?
– Была бы утица – ловчей бы подгребала! Кура то водоплавающа!
Раздавая проклятия весёлым поезжанам, девка выбралась из лужи и, пыхтя, бухнулась на широкий зад. Принялась распутывать мокрые завязки поршней.
– Зозуня! – я обомлела от смурного предчувствия. – Ты чего здеся?
– От же ж! – удивилась та, обтирая грязные руки о грязный подол. – Ведомое дело – госпожу сопровАжую. Чего мне туточки одное-то шукать? Рази что тётку проведывать, – она заговорщически подмигнула Лиходею, обомлевшему от проявлений подобной интимности, – так я скажу: нету у меня такого желания. Тётка у меня тут живёт, в роду Потаты Трясогузки, коей мужик, Вятка Овчар, у прошлом годе волкам бычка скормил. Двухлетка. От добра была скотинка! Уж как Вятка убивался, всё боялся жинке своей рассказать – пришибёт. Рука-то у неё тяжёла. Уж я-то покуштувала ейное битиё всласть – так уж приложит, аж гул и звон кругом стоит. Меня чуть не прибила за захромавшую овцу! Хорошо, тётка встряла, предложила сменять меня в Болонь на тако ж бычка. Вот и сменяли. Да я вам скажу – не такой то бычок, куды ему! И масть друга, и стать не та. В лобе не крут – не выйдет из него доброго бугая. Так, бугаишка, мабуть. Да всё одно… Тётка баяла, что даже за середнячка таких, как я, трёх штук мало. Стал быть, с прибытком сменяли. Да и то верно – на кой Овчарам девку-приблуду кормить? Я ж сиротина горька, – девка шмыгнула носом и заморгала глазами, – рода мово не осталось, всех дубрежи пожгли да порезали, – она утёрла мокрый нос рукавом, высморкалась в подол и заголосила внезапно: – Закрылися ихи очи светлы, упали рученьки белы, головушки посечёны, упокоились резвы ноженьки!..
– Чего рты раззявили? – гаркнул сотник на кметей. – Девку-замарашку не видали? Проезжай давай!
Держена наклонилась с седла и отвесила дурёхе подзатыльник:
– Где хозяйка твоя? – прошипела она, брезгливо вытирая ладонь о штанину.
Девка не обиделась. И голосить перестала. Почесала ушибленный затылок.
– Шо ж драться-то? – глянула исподлобья на поляницу глазами цвета линялого неба. – Я б и так свела…
Зозуня зачавкала мокрыми поршнями по улице, косолапя слегка и безостановочно шмыгая носом. Мы с Держеной двинулись следом.
– Поляница на свинье,
Кметь впряжён в телегу, – заголосила она вдруг, плюхая впереди. Я подпрыгнула в седле от неожиданности.
Скачет княжич на скамье
На потеху всем в рванье,
Спать ложится на стерне,
Мышу жарит на костре –
Празднует победу!
– Ох и шумна ты, коща, – буркнула я, переводя дух. – Неудивительно, что Овчары тебя сбагрить торопились.
– Коль попалась на вранье –
Киньте, други, в реку! – весело подхватила Держена и шуганула певунью. Та, завизжав, неуклюже ринулась вперёд, отчаянно косолапя. Опосля оглянулась и, отметив, что никто не собирается её преследовать, дабы кинуть в реку, снова размеренно заплюхала впереди, притопывая да приплясывая, громко и бестолково голося.
– Отуточки, девоньки, – объявила она, останавливаясь у крепкого длинного сруба с тёплой земляной крышей, поросшей первой весенней зеленью.
… Внутри было сумрачно и душно. Въедливый дух простоявшихся щей, мнилось, годами пропитывал это жилище, внедряяся в дерево стен, полотно рушников и одеял, кожу людей…
– Здравия вам, люди добре! – поклонилась я в пояс от порога. – И дедушке вашему запечному, и деткам в люльке, и коровкам в стойле – жита и благости.
Навстречу мне поднялась дородная Трясогузова большуха.
– И тебе здравствовать, княжна, – сказала она, кланяясь. – Проходите, гости дорогие, к столу.
Домочадцы засуетились, забегались, накрывая несвоевременный обед. Большуха хлопотала боле всех.
– Уж така радость в нашем дому ныне, любезная княжна, – растекалась она патокой, пока мы с Держеной рассаживались по лавкам. – Уж така радость! А ведь чаять не чаяла, что случиться она, что заглянёшь в скромную лачугу Потаты, удачу в неё принесёшь, добрая княжна…
Скоблёный стол покрыла узорочна скатерть, на колени легли шиты рушники.
– А испробуй, светлая княжна, кисельков ягодных, пряничков медовых, крендельков маковых. А от уж и взвар подоспел! Ох, и хорош-то у нас взвар, лучше моей Стаськи никто его не готовит! Отведай, не обижай пренебрежением…
Было странно и сладко принимать её хлопоты. Чувствовалось в них не только гостеприимство сулемское, но почитание и почтение. Словно не Рыську, княжью дочку неудАлую, принимали, а государыню добрую, украшенную годами, чадами многими и многими добродетелями. Неудобно это, неправильно. Хотя… Горечь, сочившаяся сквозь сладкую щекотку тщеславия, свербила, не давала забыть, что почести все и любовь народная бывшему навкину подкидышу не просто так насыпаны. А за ту жертву, на кою меня, исторгнутую из рода, обрекли. За ту жертву, на кою я безропотно согласилась.
Одиночество обступило ватным туманом. Я схватилась за пирожок, надеясь скрыть замешательство, жевала, не чувствуя вкуса, и думала о том, что сейчас я для сулемов всё равно что умершая. Душу мою, скорбящую о покинутых родных, прибывающую среди них, надо почтить. Но это не надолго. Скоро тело возложат на погребальный костёр, пропоют прощальную… Только душе отлетевшей лучше будет за смрадной Смородиной, нежели мне на степных берегах Ветлуги. Душа встретится с пращурами ласковыми – и снова в семье, снова с родичами, не одна. У исторгнутого из рода нет никого. И даже щуры мои от меня отвернутся.
– Благодарность прими нашу, мать славного рода, – молвила Держена, покосившись в мою сторону, – за хлеб, за квас, за добро, за ласку. Видим ныне, не зря слава о гостеприимстве Потаты Трясогузки столь велика. Каждый, далеко оставивший родной кров, может в твоём доме не странником перехожим принят быть, но родимичем дорогим.
Домочадцы захихикали, зашушукались, топчась за широкой спиной большухи. Хозяйка важно кивнула головой.
– А скажи-ка нам, многоуважаемая, не приходилось ли тебе привечать кого на днях, притекшего, как и мы, их Болони?
– А как же, госпожа! – Потата зыркнула в сторону Зозуни, коя у порога задумчиво ковыряла в носу. – Как же не приветить путника? Как не накормить, не обогреть, в баню не сводить, спать не уложить? И пытать принудными расспросами в доме моём не станут, коли сказывать сам не восхочет. А как же, госпожа? Мы свято блюдём пращуровы заветы, от светлых богов заповеданные…
– Что-то не упомню я завета, по коему единокровницу свою принято в кощи продавать, – вырвалось у меня совершенно для самой себя неожиданно.
Хозяйка осеклась, домочадцы припухли.
– Светлую княжну, должно, обманули, – просипела хмурая баба от печи. Сухая, рослая, с крупными узловатыми руками, почерневшими от тяжёлой работы, устало сложенными на впалой груди, она смотрела исподлобья колюче и напряжённо, поджимая тонкие губы. Темный платок вместо гордой кики, знаки вдовства и бездетности на ожерелье неряшливой вышивки – вся она, как укор беспечной радости. – Девка сия к роду Овчаров не имеет никакого касательства. Я и сама-то здесь седьмая вода на киселе – сестра жены сводного брата Потаты, взятого в наш род на Болотные Межи. А Зозунька вообще сбоку припёка. Подобрала я её в лопухах, когда бегла от дубрежей проклятых. Притекла вот к родичам сама, да хвост приволокла. Благодарение Потяте добросердечной – приняла обеих, не погнала в шею, не захолопила…
Она потупилась хмуро в пол, расцепила руки, огладив корявыми пальцами латаный передник.
– А рода Зозунька самого худого, из всех, что жили на Межах – негодящего рода, беспутного. Бездельники да сиромахи блажные породили девку сию людям в тяготу. Сидят, бывалоче, посиживают, в потолок поплёвывают, то на гусельках бренчать, то в небо глядять. Срамота! Коровёнка голодная орёть надрывается, а хозяйка мух у оконца давит. Не пахали они николи, не сеяли – то кляча, бают, сдохла в зиму, то зерно посевное по голодным Прощаницам стрескали. А уж коли посеют, так всё одно не вырастят, а коли вырастят – не сожнут, а сожнут – так сырьём сгноять. Перебивались едино общинным коштом, токмо от доброты людской ноги не протягивали…
– Да уж, Квасена, княжна и сама, мнится мне, не слепая, – встряла хозяйка, – сама видит, что девка-то нечредима, дурковата, от худого роду. Куды ея девать, непутёху?
Непутёху? Вот, значится, как… Духовная мне посестра, видать, эта красномордая дубинушка…
– Зозуня, поди сыщи госпожу, – бросила Потата в угол.
Девка встрепенулась от задумчивого ковыряния в носу, стукнулась лбом о косяк, неловко протиснулась в приоткрытую дверь и загрохотала в клети, напоровшись на пустые вёдра.
Потата выразительно вздохнула.
– Мы же со всем нашим радушием, госпожа, – она поджала губы, сложила руки на животе, под передником. – Приняли, значиться, сироту безродную, вырастили, выкормили. Мы б и оженили ея, да хто ж на таку позарится? Безродну да блажну?..
Стремительно распахнутая дверь бухнулась об стену, загремел опрокинутый сотрясением ухват.
– Доброго дня в добрый дом, – хмуро буркнул Межамир, появляясь на пороге. – Прости, хозяйка, за гостевание незваное. А токмо с сестрицей милой в разлуке день за год, тоска заедает. Позволь увесть ея из дома твого гостерадного, мать славного рода, Потата Вышатична.
Во дворе я попыталась отнять у брата руку. Напрасные труды.
– Чего вытворяешь, девка? – прошипел он мне в висок. – Почему никого не упредила об отлучке своей?
– С чего бы?
– С того, дурища, что не принадлежишь ты боле себе! Не ходишь боле где вздумается и когда вздумается!
Мы свернули за угол, и Межамир разжал пальцы. Я скривилась, поглаживая помятое предплечье.
– Али запамятовала уже, для чего на тебе плачея дубрежская? Для чего ты в Нырищах этих очутилась ныне с сопровождением, достойным перемского господаря?
Брат перевёл дух, смиряя раздражение. Я подалась было к воротам, но он перехватил за локоть, остановил:
– Рыся, – сказал проникновенно, почти ласково, – мало принять свою ношу, надобно осознать её. Неужто не разумеешь, что ныне собой являешь?
Ох, не говори мне этого, братец. Прошу тебя, не говори вслух! Ведь сказанное слово крепче камня – пригвоздишь-припечатаешь, после уж не перекрутишь, по-иному не вывернешь. Пусть останется невысказанным – подозрением, догадкой. Пусть я буду льстить себя надеждами на видимость благообразия творящегося…
– Аманат ты, Рыся, ныне. Аманат чаяний сулемских, надежд угрицких, тщеславия дубрежского. Многое ныне решается через тебя, нельзя в этой игре ошибок допускать.
Он помолчал, глядя на макушку моей поникшей головы.
– Мнишь, для красоты тебя кметями окружили? Думаешь, в этой игре все по одной стороне доски бирюльки расставили? Как бы не так. Есть те, кому не по вкусу происходящее. Кто совсем не жаждет мира. Кто не желает возрождения Угрицкого рода. Кто легко устраняет затыки в виде маленькой рыжей девки меткой стрелой в спину.
– Не разжёвывай мне словно младенцу неразумному, – сказала я. Голос дрогнул. Вскинула глаза на брата. Он смотрел в сторону, сквозь бродящего по двору кочета, с деловитым видом роющего влажную землю мосластыми чешуйчатыми ногами. Во взгляде княжича была тоска. Мне стало жаль его – здоровенного, сурового, родного…
– Стрела может прилететь из любого куста. Поэтому спина твоя должна быть всегда прикрыта спинами кметей… Ты уразумела, поляница? – бросил он в сторону подошедшей Держены. – Хорош в салки скакать, да по углам шептаться. Кончилось ваше детство, девоньки. Не подружанька она тебе боле, а стерегомая отныне. И до века. Поняла? Ты первая за княжну и посунешь голову свою бестолковую. Коли лишишься её – урон небольшой. Одним кметем меньше. Коли княжну не довезём – Суломань не простит.
– Тяпун тебе на язык, – прошептала я потрясённо. – Неужто жизнь человечью равняешь ты с успехом дела порученного? Ведь Держену ты с малолетства знаешь… Неужто тебе в самом деле не жаль никого?
– Народ мне свой жаль, – выплюнул он сквозь зубы. – Детей его нерождённых. Землю свою растерзанную. Предков своих, чью славную память бесчестим мы трусостью да осовелостью разума нашего сонного, погрязшего в путах закостенелости своей. Вот чего мне жаль, Рыся. А жизни, положенной за Суломань, мне не жаль. Ни чужой, ни своей. Лишь бы не зря жизни те класть, как все эти годы…
Развернувшись, он зашагал к воротам, кивнув заполонившим двор кметям.
– Межамир! – окликнула я. Он оглянулся. – Коли не довезёшь меня живою, о ком заплачешь? О сестрице кровной али о несвершившемся уговоре мирном?
Брат, не ответив, шагнул в отверзтую калитку.
На сотника я наткнулась взглядом сразу же, как из Потатиных ворот вышла. Он сидел верхами на комоне своём яром, перебирал рассеянно поводья, слушая донесение дозорных. Рядом топтался бирев нырищский с калачём на рушнике да большуха его.
Я закусила губу. Вот и приветствия должного не вышло, встречи правой, лепой не свершилось – всему бестолковость моя причиной.
– Госпожа Рыся! – пробасило из-под комля верейного столба.
За плечом толстомордой грязнухи маячило белое личико хозяйки. Она нетерпеливо пристукивала ножкой, замаявшись, видать, дожидаться.
– Рыся! – кинулась она ко мне. – Пошто долго так? Ажно проросла в землю корнями, пока дожидалась тебя!
– Я же сказала тебе ещё в Болони, что не возьму с собой! – прошипела я зло.
Ох, сдавить бы своими пальчиками шейку ейну белу, да так, чтоб хрустнуло! Жаль, силушки недостанет!
– Рысюшка, не погуби! – с придыханием зачастила Белава, обливаясь легко текучими, обильными слезьми. – Нету мне дороженьки назад. Убегла я из дому, не благословясь, у отца, у бабушки родимой не спросясь. Изверглась из рода тебя ради. Коли не возьмёшь с собой, всё одно – в дыру эту возгряну не вернусь, мира не поглядемши, лучше в Ветлугу студёну, к водяницам хладным в рученьки…
– Скатертью дорога! Там тебе, дуре, самое место!
Да скорее Ветлуга пересохнет, чем примет эту докуту Истолову! Скорее солнце погаснет, чем эта вертихвостка живота себя лишит! Уж я-то её прекрасно знаю.
– Боишься? – прищурилась Белава, упёрла руки в бока, внезапно просохшие глаза заблестели вызывающе. – Боишься красы моей, рудая княжна? Можа, опасаешься, князь в мою опочивальню по ночам чаще бегать будет, чем в твою? Меня не берёшь, возьми хоть кощу мою Зозуньку. Рядом с ней-то да с навкой этой Держеной даже ты павой помстишься! – она повернула голову и вскинула точёный подбородок. – Добре окруженьице для непродажного товара, коий ты, сотник, князю свому подсунуть желаешь!
Божежки! Неужто сотник всё это время слушал нашу грызню? Охти мне, жалице бессчастной… Возжелалось провалиться сквозь землю, да земля не приняла. И стояла я у ворот Потатовой одрины красная, растерянная, жалкая, втоптанная в грязь изящными башмачками Деяновой работы…
– Ах ты, курва аркудова, – медленно проговорила Держена, двинувшись к ней. – Я щас сделаю из тебя красавицу, таку уж расписну, словно прялка узорчата…
– Отставить, девоньки! – сотника, мстилось, ничуть не потешила устроенная на его глазах склока. Он будто о чём-то своём размышлял, прислушиваясь к нам, а ныне, видать, осенило его. Он спешился неторопливо и отвесил в мою сторону низкий поклон, забавляясь, по всей видимости, оторопью видаков.