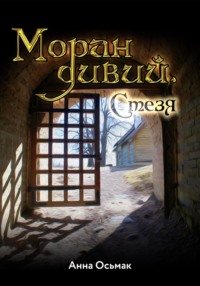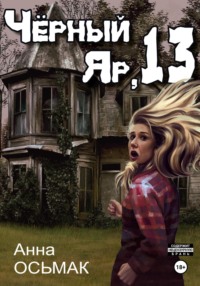Полная версия
Моран дивий. Книга вторая. Реноста
– От того, кого..? – в ужасе повторила я.
Вежица снова завозилась под шкурами, отворачиваясь к стене. Я уставилась на Хытрю. Та мурчала и смотрела в угол. А угол смотрел на нас. Тяжёлым холодным мраком ИНОГО.
– Бабушка Вежица! – голос мой дрогнул.
Старуха ругнулась и тяжко вздохнула:
– Вот же бесово семя…
– Кто там в углу?
– Маятень, кто ж ещё…
Я резко села, сжавшись на своей лавке и подтянув шкуру до самого носа.
– Ну? Чего подскочила? Лежи, не бойся. Говорю тебе, нет от неё опасности. Частенько сюда приходит, уж свыклась я с ней.
– Она была женщиной?
– Она была морой. Жила здесь, в этой истопке. И умерла неподалёку. Сунежей звали.
– Откуда знаешь?
– Да уж знаю, – буркнула недовольно Вежица.
– Отчего мается душа её?
Мора вздохнула. Кряхтя, снова развернулась лицом ко мне, вытащила нос из шкур. Помолчала немного. Потом села на лавке так же, как я, поджав ноги.
– Честного погребения хочет. Мести хочет. Только ни того, ни другого не получит. Никто из смертных сделать для неё этого не сможет.
– Расскажи, прошу тебя!
Мора фыркнула.
– Нашла сказочницу.
Она по-стариковски пожевала губами, погладила ладонью облезлый волчий мех:
– Да рассказывать тут особо нечего. Просто: жила-была мора, молоденькая совсем, ясноглазая. И была она ни хороша, ни плоха, ничем не особенна, но удостоилась высокой и страшной чести – полюбил её Моран. Окружил заботой, засыпал подарками – всё, что хочешь, бери, Сунежа, за ласку твою. Желаешь бессмертную юность? Желаешь ведать языками птиц и зверей? Желаешь постигнуть непознанное самыми мудрыми ведунами? Но мора желала только свободы – того, чего Моран дать ей не мог. Он построил для неё крепь, заточил её там, укутав в шелка и любовь. И, скажу тебе, не было на земле любви несчастней.
А на лукоморье Студенца, за Суломанью на полночь, там, где не растёт лес, жил-был великий кудесник, ведун и бывший жрец Морана, давно оставивший своё служение. Ни до, ни после не рождала земля более великого ведуна, скопившего, подобно жадному Истоле, все знания мира. Все тайны земные и небесные покорились ему, и не было мудрости той, что переполнила бы бездонную чашу его разума, той, что утолила бы неутоляемую жажду познания, той, что сломала бы ему спину, превысив ношу знания, положенного человеку сущему. Казалось, никогда для него не наступит время прийти на Мораново капище, стереть мох со старых рун и влить свою мощь, накопленные сокровища ведения в живой источник нашего мира. Напротив.
Возжелал ведун сам сравняться с Мораном, страшно сказать, – стать новым источником для нового мира. Устраивать его и повелевать им так, как сочтёт нужным, создавая божественное и земное.
Мора замолчала, задумавшись. Я ошалело хлопала глазами в темноту, способная внимать её словам, но не способная постичь огромность, бесконечность сути произнесённого. Как маленькая веретеница, поймавшая сдури слишком крупную для себя добычу, я была не в силах её заглотить, переварить и насытиться.
– Звали его Тэш, – продолжила мора. Паутина в углу плеснула, как от порыва ветра. Хытря чихнула и юркнула ко мне под бок, торопливо прокапывая в шкурах норку. Я запустила её в тепло, погладила успокаивающе по голове.
– Великий Тэш смог обмануть Морана, смог освободить Сунежу и увести её на Студенец.
Мора стала говорить медленно, с продолжительными паузами, как будто через силу. Она снова замолчала.
– Они полюбились друг другу, жили долго и благостно? – подтолкнула я её робко.
– Ну, да, – мора снова стала укладываться. – Он отрубил ей крылья, которые подарил для побега, и зачал ей дитя. Потом отправил в эту истопку на болотах, где она жила, пока не разрешилась от бремени. После чего забрал сына, а её убил, утопив в трясине.
– Боги, зачем? – потрясённо прошептала я.
– Должно, были у него для этого причины, – мора зевнула. – Зачем-то ему нужен был ребёнок и нужен именно от Сунежи. Зачем – не знаю. И зачем эту несчастную убил – тоже не знаю.
– Моран не смог бы ей помочь?
– Он пытался, он спешил… Как может спешить лес. Прорастал рукой в эту теснину и смог добраться до наших болот только спустя годы после гибели своей глупой моры.
– Что стало с Тэшем?
– Тронулся умом великий кудесник, одичал. Бегает, бедный безумец, по Угрицкому Морану, добрых людей пугает. Настигло-таки его возмездие за жадность – не выдюжил хребет груза познания, сломался с громким хрустом. А уж какова судьбина чада его и для чего оно было создано – этого уж никто не знает.
– Скажи, бабушка, разве Сунежа не отмщена? Разве то, во что превратился Тэш, не лучшее воздаяние ему за совершённое?
– Месть, девонька моя, за погубленную душу – не есть простое воздаяние погубителю. Чтобы душа моры успокоилась и растворилась в создателе своём, месть должна разгладить скомканную совершённым злом ткань бытия.
– Чего?
– Того! – раздражённо отмахнулась старуха. – И вообще, с чего ты решила, что отомстить требуется Тэшу?
– А кому же? – вот уж неожиданный вопрос.
– Может, Морану?
Я долго сидела с широко распахнутыми в ночь глазами, обдумывая услышанное. Паутина в углу больше не шевелилась, кошка мирно похрюкивала, пригревшись у моего тела…
– Бабушка! – позвала я.
В ответ раздался преувеличенно раскатистый храп.
* * *
Домой я думала вернуться поутру. Но пока жевала холодную куропатку с сухарём, пока готовила горячий взвар из сушёных трав и ягод, упал ненароком взгляд на пугавшую меня ввечеру паутину. Добыв в сенях тощий прутяной веник, скрутила её со стропил, оглянулась вокруг и… принялась за уборку. Отдраив избушку, почистила снежком шкуры, помогла Вежице устроить помойню, натаскав воды и жарко натопив лачугу, нарубила дров впрок, сбегала обобрать ближайшие силки… Потом, уже ввечеру, уселась чинить скрипучую лыжу.
А и не хотелось мне в Болонь. Здесь было уютнее. Теплее. Безмятежнее. Проще. Да и старухе надо помочь. На охоту что ли завтра сходить?
В общем, задержалась я в Моране. Не впервой, чай. Никто не хватится. Кому я нужна-то? Кто по мне затужит, хоть и вовсе я не возвращайся?..
Встретив меня с добытым зайцем у ступенек истопки, мора забрала тушку и принялась неторопливо разделывать её здесь же, на дровяном колуне.
– Поди в дом, – сказала она, сосредоточенно снимая шкурку. – Я наготовила тебе почитать.
На чисто выскобленном мною столе желтела стопка собранных в книгу страниц: «Сказ о полянах степных – дубрежах, уграх да поморанах, а тако же о полянах полуночных – сулемах, а тако же о горцах кочевых – полянах латыгорских Дестимидосом-путепроходцем составленный».
Дедушка научил меня ещё в детстве читать на полянском, Вежица – разбирать руны сили и витиеватую вязь просвещённого перемского народа, живущего далече на полдень и рождающего множество сочинений. Бывало, весьма полезных сочинений. Но чаще – предвзятых и недостоверных. Хотя Вежица считала, такие я тоже обязана знать. Их польза, говорила она, в обнажении сущности человеческой и нравов народов, населяющих мир за пределами безбрежных полей Суломани. Я с ней спорила: на что мне это знание? Пусть Заряна изучает те нравы и сущности. Ей быть большухой, ей дела править. А моё-то дело телячье. Но с морой спорить бесполезно. И я читала всё, что она мне подсовывала, внимала всему, что она по прочитанному растолковывала мне, глупыхе. Не скажу, что её настойчивость, её учение были мне в тягость – не ведала я наслаждения большего, чем, оставляя неласковую непогожесть судьбины своей, погружаться в сказания мудрецов и книгочеев под тихое потрескивание лучины, среди глухо ворочающегося за тонкими стенами холодной лачуги Морана…
Пустив в дымную истопку волну весенней свежести, мора протиснулась в двери и принялась устанавливать над очагом котёл с зайчатиной.
– Поперву просмотри то, что касается Угрицкого рода.
– Почто? – удивилась я, в предвкушении переворачивая плотные листы. – Почто торопиться? Мёртвые подождут, им спешить некуда…
Мора сердито уставилась на меня:
– Уж больно ты, девка, как я погляжу, спорить горазда, – и продолжила, насупившись, возиться у очага.
– Так почто, бабушка? – я чмокнула её в морщинистую щёку, потёрлась виском о тёплую, пахнущую свежей дичиной, руку.
– Изыди, конопатая! – отмахнулась старуха, изо всех сил стараясь сохранять сердитость. Потом вздохнула, погладила меня по голове: – Им-то оно, конечно, торопиться некуда. А тебе не мешает поспешить, Рысюшка.
– Рыська! – истошный ор во дворе заставил подпрыгнуть меня на лавке, невольно смахнув локтем со стола несколько прочитанных листов. – Рыська!
–Вя-вя-вя-вя! – оглушительно заливалась откуда-то взявшаяся псина.
Что за невидаль? Какого рожна этот спиногрыз здесь делает?
– Чего блажишь, вырыпень окаянный? – осведомилась Вежица. – Устырей болотных поднимешь раньше срока!
– Мне Рыську надоть, – буркнул Светень.
Двери, и входные, и сенные, по случаю разожжённого поутру и всё ещё не продымившегося очага, были открыты настежь. Беседа мне была слышна очень хорошо.
– Ишь ты! – удивилась мора. – А ведаешь ли, невежа, к кому пришёл сестру искать? Ежели и скажу тебе, где она – уж не за здорово живёшь. Готов, возгря, с морой договорничать?
– Нее, – засмеялся нерешительно малой. – Что тут договорничать? Я и так знаю, что она к тебе пошла.
Я вышла в сенцы, прислонилась к косяку в тенёчке. Небо было пасмурно и слезливо, над болотами гудел мокрый весенний ветер, раскачивая по окоёму сосны Моранова ожерелья.
Братец стоял на лыжах поодаль, сдвинув на затылок войлочную шапку. Мокрые белые вихры облепили лоб. Щёки горели жаром – хоть трут возжигай. Голубые глаза с восторгом озирали обиталище моры. Позади него, путаясь в ногах и лыжах, крутился пегий кривоногий кабысдох, прицепившийся с мальчишкой от Болони. Он храбро облаивал небо, прячась за спутника, потому что облаивать непосредственно и целенаправленно мору было боязно – вдруг обидится да огреет палкой. А так он вроде и лает, а вроде и ни при чём.
– Аже человецы у тебя, бабка мора? – во все гляделки таращась на черепа, красующиеся по верхам местами ещё не завалившегося тына, выдохнул мальчишка.
– Человецы, паря, – Вежица постучала палкой по жёлтой кости. – Таки же кровопивцы, аки молод княжич с Болони. Кои шлялись по Морану дозволения без…
– Кои заплутали и достались зверью дивому на растерзание?
– Кои заплутали и достались бабушке море на поживу.
– Ты их съела??
Я решила, что пора выходить, пока братца не разорвало от восторженной жути.
– Съела, съела, – подтвердила я, появляясь в проёме дверей, – и на косточках покаталась. Тебе чего здесь надобно?
Мальчишка сразу поскучнел.
– Межамир за тобою послал. Баял, Рыська вовсе совесть потеряла. Вовсе одичала по лесам бегаючи, дом ей, видать, отхожим местом пахнет. Бает, не чредима девка, своенравна и …
– Чего я Межамиру понадобилась?
– Так дружина вернулась, – ухмыльнулся вырыпень малолетний. – Уж три дня как. И сидение гридницкое уж отсидели. Пир ныне.
– Ну и славно, – я пожала плечами. – Передай Межамиру, другий день буду, – и повернулась спиной, собираясь нырнуть под низкую притолоку.
– Э! Рыська! – запаниковал болонский посланец. – Мать велела привести тебя непременно сегодня! Нужна ты зачем-то…
Вежица перехватила поудобнее палку-ледорубку с крепким железным наконечником и продолжила долбить канавку во льду для стока талости.
– Поди, девка, – молвила она под мерное потюкивание, – поди-поди, не напрасно зовут ныне.
Зима уходила неохотно. Темнела льдом на болотах, мокла и куксилась, прячась в лесу от яростных весенних ветров. Не скажу, что я так уж жаждала её проводить – послезимье в Болони то ещё удовольствие. Время ветряное, промозглое, половодное. Даже редкие и сладкие Варуновы поцелуи его не скрашивают. Но… Но мир держится на хрупком равновесии небесных качелей. Нельзя его нарушать. Нельзя накренять качели без опасения разрушить складность сущего. Поэтому – всё в меру, в силу, сообразно сроку – по закону божественного лада. Уходи, Макона, я буду скучать…
Мы скользили по мокрому каменеющему снегу, оступаясь порой в просачивающуюся из-под него воду. Неудобно уже и тяжко на лыжах, но всё лучше, чем брести пеше, выдирая мокрые валенки из снеговой каши.
– Отец дубрежей привёз, – пропыхтел сзади Светень. Ему, видать, страсть как хотелось поделиться новостями.
– Вот ещё, – буркнула я, – у самих закрома пусты, по сусекам ветер гуляет, пыль гоняет. Чем кОщей-то кормить?
– А вот и не кОщей! – с удовольствием уел меня братик. – Не пленные то – посольство, во!
Ну посольство и посольство. Истола с ним. Не вижу только, о чём нам с дубрежами посольничать? О чём договариваться? Ни в жисть не поверю, что мира они запросили. На кой он им? Это мы в мире нуждаемся, как в хлебе насущном. Но нам он только блазнится… А им-то что? Сильны, сыты, богаты. Землями сулемскими приросли, рабами разжились. Им наша война – мать родна. Хотя попритихли вроде последние годки наши бодания, всё больше с силью ныне ратимся. А всё же – нет, не за миром они приехали. Не вижу причины им мира искать.
Тогда зачем?
– Чего взыскуют? – бросила через плечо.
– Как чего? – показушно поразился Светень. – Приехали, значится, соскочили с комоней ретивых, сложили мечи булатные к матушкиным ножкам. «Ничего, рекут, не пожалеем мы – ни сребра, ни злата, забирайте назад холмы свои Сторожевые, да и нас всех с потрохами, только дайте хоть одним глазочком взглянуть на диво дивное, красу ненаглядную, коей земля ваша на весь подлунный мир славна»!..
– Во дурак! – вздохнула я, безошибочно чуя подвох. – Како тако диво, хребет те набок?
– Так, бают, уважьте – покажьте руду княжну Рысю, свет Вестимировну, дщерь Мстиславы, большухи славных сулемов…
Ловко увернувшись от заряженного мной ему в лоб снежка, он скинул лыжи и с хохотом принялся удирать по мокрым сугробам, отбиваясь снежками и проваливаясь по колено в снег. Собака носилась вокруг, звонко облаивая сосны и радуясь весёлой забаве. Поставив уши торчком, она замолотила лапами по снегу, откопав прошлогоднюю дохлятину, и принялась валяться по ней, привизгивая от удовольствия.
Им, гадёнышам, было весело…
* * *
Княжий двор был люден и многоголос. Кмети, уставшие от трёхдневного затворничества, толклись на грязном снегу подворья за разными надобностями: кто коня обиходить, кто мечом помахать-размяться, кто семечки полузгать, кто лясы поточить…
Вежица сказывала, будто никто уже, кроме сулемов, не блюдёт обычая выдерживать прибывших из похода воев отдельно от людей в течение трёх дней и ночей. Принимают походники других полянских племён очищение доброй баней и мыслят при том, будто вместе с нечистотой телесной сама собой смылась скверна дороги, скверна пролитой крови. С чего бы? К чему блазнити себе? От глупости, суетности, лености душевной?
Да разве ж это просто – кровь смыть! Да не с рук – с души. Дедушка говорил, не смывается она вообще никогда, так и жжёт под сердцем, пока милостивая Макона не накроет тебя и печали твои покрывалом небытия. Пока не уведёт к тем, чью нить жизни ты оборвал, не спросясь небесных прях.
Поэтому сулемы ныне, а ране и воины всех полянских племен, сразившие врагов и благополучно вернувшиеся домой, затворяются от людей, постятся, винятся перед убитыми, хоронят их в своём сердце, требы им приносят – дабы маятней не плодить. Дабы ушли они на посмертные холмы своих богов, дабы приняли те своих детей без отмщения и растворили в сути своей. Ибо как бы ни был ненавистен враг во время сечи – побеждённый он прощён. А значит, заслуживает помощи в своей непростой последней дороге.
Вот и баню возвратившийся походник должен посетить дважды: по прибытии – смывая пыль чужих земель, да по окончании сидения – очищая душу от горечи совершённого.
Потом воины снова готовы вернуться в свой род, обнять детей и взяться неосквернёнными руками за соху.
… Надвинув шапку поглубже, дабы не светить лишний раз яркой, словно морошка, маковкой, не привлекать внимания зубоскалов, я просочилась через двор, юркнув в боковую дверь поварни. Влетев с разбегу в чад и суету готовящегося пира, споткнулась о костыль рассевшегося у дверей Гвиделя, шарахнулась от проплывшего у носа горячего котла, наступила на вбежавшего вслед за мной братишкиного кабысдоха и побежала по крытому переходу в терем.
Девичью горницу я делила с сёстрами. Ныне здесь не было ни души. Да и кому бы сидеть по лавкам среди бела дня? – все, даже малыши, делом заняты. Одна я, как обычно, в поле обсевок…
Где шибалась все эти дни? – спросит Межамир. На охоту ходила? Где же добыча твоя, зверолов? А на поварне, скажу я, глядя ясными глазами ему в очи. А что? Пир всё спишет. Разве там уследишь да учтёшь – кто, чего да сколько?
А коли Послушу, стряпуху спросит? Межамир – он такой, с него станется. Ох, и вредный. Ох, и достаётся нам от него частенько. Но я не в обиде. Он ведь не по злобе, по долгу старшего нас гоняет. Ни князь, ни княгиня не принадлежат ни себе, ни тем более семье. Они – отец и мать всего народа. А нам уж – что достанется. Вот и достался нам братец Межамир. Он – нам, мы – ему. Вряд ли молодцу ретивому, не обзаведшемуся до сих пор собственными чадами, так уж нравилась роль отца семейства, воспринятая им с малолетства. Но он её нёс безропотно и старательно, потому как это была его ноша. Не единственная, но и не последняя по значению.
Готовилась воспринять свою ношу и Заряна. Ещё совсем недавно хулиганистая и смешливая девка, она изменилась сразу и насовсем, вздев на голову тяжёлый венец невестящейся большухи. Вместо меня. Ох, не согнула бы эта тяжесть её белых плеч…
Мать готовит ей незавидное наследство: немирье, тягостно и беспроторно влачимое сулемами, как влачит вязнущий в грязи неподъёмный воз полудохлая кляча; да рваный лоскут родной земли, зело обкусанный соседушками-стервятниками со всех сторон; да остатки народа, забившегося в болота Ветлуги. Эх, Заряна-сестрица, долюшка твоя… Где выход? Где спасение? Как починить расползающуюся под руками ветошь?
Можно было б залатать, говорила, бывало, бабка Вежица, было бы за что хватать…
Впрочем, каждого из моих братьев и сестёр ждёт своя ноша. И всех вместе – одна общая: сражаться, даже когда нет надежды, вдохновлять, даже когда нет спасения, работать, даже когда нет сил, и держать спину прямо, даже когда сломают хребет.
Мне их было жалко. Так жалко! Все они должны. Должны изначально, беспрекословно. Должны только по праву рождения. Нет у них ни выбора, нет свободы. Потому что в княжьей семье рождаются не для жизни, а для служения. Вот так.
Даже странно подумать о том, что белобрысый Светень, которому мне так часто хочется настучать по темечку, и тот через пять-семь зим должен будет стать взрослым и воспринять это служение. Должен будет вести людей в бой, поднимая на ворога своим примером. И никому не будет интересно, что воинский путь, может, не для него вовсе. Что, может, вышел бы из парня добрый кузнец, как из деда нашего, или стал бы он дюжим усмарем-кожемякой, как Деян, или добрым землепашцем, справляющим каждую весну свадьбу с Землёй-кормилицей. А, может, собрал бы он котомку да отправился в страны чужедальние, написал бы сочинение о своих странствиях ещё и получше Дестимидоса Путепроходца. Да не на перемской вязи, а полянскими ясными рунами. Может быть…
Но о его желаниях и склонностях никто не узнает. Даже он сам может не успеть понять своей склонности до того, как геройски погибнет в жестокой сече с сильскими наёмниками, сражаясь за эти истоловы Воловцы – пропади они пропадом!
…Одной мне, навкину подкидышу, княжья кровь не судила ноши. Проживу на свете сорняком – ни пользы от меня, ни радости. Хорошо то? Плохо ли?..
Затолкав под лавки заплечный мешок, наскоро переодевшись в девичью рубаху, подвязавшись клетчатой понёвой и сунув ноги в старые, разношенные поршни, бросилась было вниз по всходу, но – остановилась. Вернулась в горницу. Заглянула в маленькое бронзовое зеркальце, бликующее на бревенчатой стене. Вздохнула над вызолоченными Варуной ланитами, пригладила волосы, изрядно смачивая их медовой водой, дабы лежали как следует, а не топорщились круг лица огненными всполохами. Переплела растрёпанную косицу. Прислонила мокрые валенки к каменному печному дымоходу, проходящему через горницу и согревающую её теплом топящейся внизу, в большом срубе, государыни-печи. Накинула душегрею. Ну, теперь-то уж всё, вроде.
Я притворила дверь и побежала в поварню.
Межамиру, слава богам, недосуг было меня сегодня распекать. Он прислал в поварню старого коща, который передал мне повеление брата: завтра присутствовать на соборе в гридне, а сегодня – на пиру. Всенепременно. Коли забегу куда – кощ засмущался – брат обещал косы повыдергать.
Продолжив невозмутимо чистить репу, я кивнула старику:
– Передай княжичу, я его услышала, – нахмурив брови, усиленно задвигала носом, принюхиваясь. – Послуша! Пироги!
– Ахти его! – перепугалась стряпуха, кидаясь к печи.
Я подхватила покинутый ею нож, быстро отделила им добрый шмат ароматного солёного сала, закинула его тряпицей и догнала Межамирова посла у двери.
– Дедушко Сван, – прошептала я, ловко забросив сало ему в пазуху. – Поищи Держену, голубчик. Скажи ей, пусть заглянет в поварню.
Ещё по дороге из Морана я не удержалась, выспросила у Светеня – вернулась ли подруга? Всё ли с ней благополучно? Весела ли, здорова, не ранена? Мне не терпелось свидеться с ней. Но, и так провинившись долгой отлучкой и бездельничаньем, не рискнула снова отправиться по своим делам. Вот коли она сама наведается, тут уж никто не осудит за радость случайной встречи.
И ведь наведалась. Не минуло и пары вёдер репы, как свет подруженька, ясно солнышко предстала на пороге поварни среди угара и чада подготовки большого пира…
Держена – славная поляница: плечистая, коренастая, крепкая. В жилах – огонь, в ударе меча – ярь и удаль, мощный лук, кой не всяк муж натянет, бьёт без промаха, секира рубит без пощады. Держена – один из лучших кметей в дружине князя. А вот девка…
Девка она не чредима. Не доброзрачна. Глядя на неё трудно поверить, что кто-то из сулемов когда-либо попросится в её род. Не столь забоясь силищи и буйности её, паче смутясь непригожести девичей. Загорелое, обветренное лицо походника, широкий нос и коротко обкромсанные тёмные волосы, рано залегшие у рта складки и туго перетянутая под рубахой грудь – рядом с ней даже я могла показаться жениховским загляденьем. Как истый кметь она груба и остра на язык, скора на расправу, неразборчива в удовлетворении похоти, жестока даже в потешных боях и непримирима в спорах.
Но была ещё одна Держена. Та, что между походами, сменив штаны на понёву, ходила в девичьих хороводах, загрубевшими пальцами, привыкшими к ежедневному воинскому правилу, вышивала на посиделках корявые стежки на приданых рушниках к своей свадьбе. А в Варуновы ночи, нацепив нарядную рубаху и нахлобучив на лохматую круглую голову венок из златоцвета и огнёвки, с таким трепетом выглядывала не суждёного ей суженого, что мне становилось мучительно, до слёз жаль эту несгибаемую воительницу, кованые доспехи которой, оказывается, так хрупки.
Люди посмеивались над ней. За глаза, конечно. Попробовал бы кто потешаться в открытую – костей бы опосля не собрал. Удар у Держены сокрушительный. Материно наследство. Мать-то у неё тоже поляницей была. Как родила её в ту памятную ночь в обозе, оправилась слегка – только её и видели. Покинула ребёнка на род свой, вскочила на коня и унеслась прочь из болот, туда, где дружина князя прикрывала отход народа. В одном из тех сражений она и погибла. И муж её погиб – Вышемир Бешеный.
Говорящее прозваньице у Держениного батюшки, да. Старые вои, знавшие его, бают, дочь многое взяла у родителя своего. Среди кровавого месива боя дух Вышемира будто вселяется в тело её, наливая красным девкины очи, пьяня её запахом смерти, брызжа вокруг свирепой яростью – рычащей, разящей, безумной. Бешеной.
Испугалась бы я, узрев свою добрую подругу такой? Смогла бы по-прежнему любить её и жалеть?
Не думаю, что мне хотелось бы узнать это наверняка…
– Рыся! – заорала подруга с порога. – Злата моя! Куда княжну мою дели, вырыпни морожены?!
Я бросилась ей на шею. Расцеловавшись, мы закружились за руки, смеясь и нещадно толкая Гвиделя, поносящего нас последними словами.
– Цела? – спросила я, оглядывая крепкую фигуру в дублёных штанах и короткой, стянутой на поясе куртке.
– Ужо давно почата, рыжик!
Я покраснела:
– Вот уж язык твой поганый! Не об этом я.
– Да ладно, ладно! – смеялась поляница. – Всё со мной ладно. Так, слегка царапнута, да и то заросло всё как на собаке – пропадёшь пока найдёшь.
Я потащила её в свой угол, к бадейкам с репой – дело-то не ждёт. Блестя глазами над очистками, тихонько хихикая и взрываясь громким смехом, мы лихорадочно повестили и сплетничали.