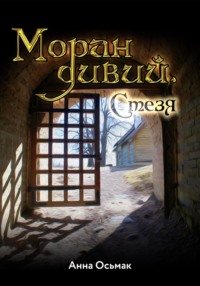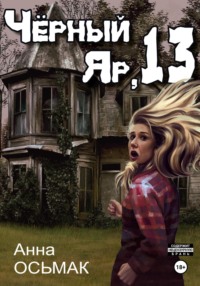Полная версия
Моран дивий. Книга вторая. Реноста
Внезапно Держена осеклась на полуслове, уставилась мне на лоб, словно там звезда воссияла.
– А где твой венец?
Я дёрнула плечом и шмыгнула носом.
– Понятно. Заряне?
Голова моя мотнулась, изобразив натужный кивок, и свесилась уныло над репой. Надо же. Вот уж не чаяла, что затужу вдруг над своим развенчанием. Ведь сама себе говорила и верила – так лучше для всех. И для меня в перву голову. Но подружка спросила сочувственно, помолчала, словно над упокойником, вот и поплыла я. Обидно – аж в груди жжёт. Да не на родных обида, лишь на судьбу свою.
– Не быть тебе, выходит, большухой, – задумчиво произнесла подруга. – Но тогда как же?.. – она уставилась, не мигая, в стену поверх моей головы.
Я недоумённо подняла на неё глаза.
– Видишь ли, – неуверенно протянула она, перехватив мой взгляд, – князь там посольство привёз…
– Дубрежей? – блеснула я познанием.
– Не совсем, – Держена снова замолчала, уставившись на меня. Казалось, в голове её сейчас рождается некая догадка, и догадка эта ей не очень по нраву. – Посольство Угрицкого князя.
– Какого князя? – я рассмеялась. – С того света?
– С этого, – строго осекла Держена.
– Вот уж чудеса! И какого Истолы ему понадобилось в Суломани? Да и откуда он вообще взялся? Их же никого не осталось после нашествия гучей?
– Стало быть, остался. Один. Объявился, бают, три зимы назад в Дубреже, у родичей матушки своей. Род его признал. Теперь он, вроде, Зборуч наново поднимает.
– Неужто? Вот уж чудеса! – повторяла я вновь и вновь.
– Чудеса, – согласилась Держена, швырнув недочищенную репку в бадью. – Не говорят об этом пока. Но я случайно кое-что слышала, – она утёрла руки ветошью, посмотрела на меня мрачно. – Сватов князь прислал в дом твой.
– Кого же сватает князь? – прошептала я после долгого молчания.
– Ну кого же он, интересно, сватает? – раздражённо вопросила Держена, упершись руками в бёдра. – Может, первую из дочерей на выданье, окромя наследной большухи? А?
Ох, Держена, Истола тебе в печёнку…
* * *
Вечером в девичью горницу, наполненную визгом, писком, смехом и вышитыми лентами, заглянула большуха.
Она внимательно и бесстрастно оглядела наши с Заряной наряды, прицепила к моему налобному обручу принесённые с собой колты червлёного серебра, перевязала Заряне поясок. Выдернула из стайки запыхавшейся мелюзги, присмиревшей при виде матери, тринадцатилетнюю Мстишу, велела нам помочь ей одеться.
Княгиня удалилась. Метнулись в проёме двери пёстрые клетки длинной, до пят понёвы, вспыхнула ярким огнём рогатая кика, звякнули поясные обереги… Мы с сестрой переглянулись. Я уже успела поведать ей о цели прибывшего посольства.
– Видно, не надеется, что меня возьмут, – с привычной горечью сказала я. – Мстишей хочет подстраховаться.
– Рыся! – бледная Заряна беспокойно пыталась заглянуть мне в глаза. – Неужели ты думаешь, мать может извергнуть дочь свою из рода? Неужели ты так думаешь? Как это возможно? Испокон веку сулемы по женщине род вели. Не уподобится же княгиня беспамятным дубрежам, давно позабывшим закон богов и предков?
– Думаю, уподобится, – буркнула я, натягивая на Мстишу праздничную узорочную рубаху.
Заряна стояла посередь горницы поникшая, растерянная, словно пришибленная.
– Сестра, опомнись! – воскликнула я. – Посмотри вокруг – если ничего не изменится, и не изменится очень скоро, сулемам недолго останется чтить свои традиции. Нам нужен мир с Дубрежем. Нам нужна поддержка против сили. Это посольство – дар богов, мать в него сейчас вцепится волчьей хваткой. Надо будет – она с тебя венец снимет и тебя отдаст. Ведь Угрицкий князь – родич дубрежи. Наверняка за невесту мзда причитается в виде союза. Иначе отец не стал бы тащить в Болонь это посольство.
Переплетая Мстишину косу, я нервно дёргала пряди. Сестрёнка шипела и хныкала.
– На кой же полянскому князю сулемская невеста? – прошептала Заряна, опускаясь на лавку. Ох, не сильна будущая большуха… Ну, ничего, закалится со временем, заматереет. – Отродясь такого не бывало.
– Не бывало, а ныне будет, – я добыла из скрыни более или менее целые башмачки, кинула их сердитой на меня малявке. Почесала затылок. – Должно, объявившийся князь – не особо ценный жених. Сама посуди: ни рода, ни племени, ни земли. В одном кармане вошь на аркане, в другом – блоха на цепи. Кто из полянских княжих родов породнится с таким захочет, с сиротой беспортошным? Вот он и нашёл тех, кто захочет. Да ещё и за великое благо почтёт.
В дверь заглянула коща, присланная за нами, потопталась нетерпеливо на пороге.
– Готовы что ль? – вопросила недовольно.
– Ладно, – я оправила рубаху, приложила ладони к горящим щекам. – Пошли уж. Поглядим сватов…
В горячем мареве развешанных по стенам гридни факелов я сразу отыскала незнакомые лица. Их и было-то не боле двух десятков воев. Видать, невесте в сопровождение назначенных. А где ж думный их? А! вот, вижу. Сидит одесную от матушки. Такоже, видать, воин. Рослый, плечистый. Тёмные пряди падают на лоб. Борода с прорыжью. Глаза смеющиеся, незлые. С интересом поглядывает на нас троих, рассаживающихся напротив, ошую от князя.
– Твои дочери, княгиня, прекрасны, словно юная весна, – сказал он. – Но я вижу, одна из них прочена в большухи. А младшая куклами ещё, видать, забавляется? – он отсёк ножом ломоть дымящегося бараньего бока, шлёпнул на расписное блюдо чёрной глины. – Выходит, в невесты моему князю прочится эта солнечная дева? – он улыбнулся мне.
– Это не смотрины, сотник. Они сидят за столом пиршественным, потому как в возраст вошли. Но… – мать помолчала, наполнила гостю чашу. – У меня много дочерей, Сурожь не обидела. Коли тебе приглянётся для князя не старшая, другая, – она кинула быстрый взгляд на обмершую Заряну, – у меня будет, на кого надеть венец большухи вместо неё.
Заряна опустила глаза. Я сжала под столом ободряюще её ледяную руку. А она никак не ответила на пожатие.
Во всяком пире наступает время, когда девкам, не обрезавшим кос, положено удалиться в свои горницы. Ни к чему им наблюдать во всей красе разудалую гульбу перепившихся кметей.
Мы чинно поднялись из-за стола и направились к двери. Я помахала Держене, но она, увлечённая яростным спором со своим однокашником, меня, кажись, даже не заметила.
Во дворе было свежо после дымной душной гридни. Полная луна примораживала весеннюю грязь, подсвечивая её белым колдовским сиянием.
Сёстры засеменили друг за дружкой по утоптанной среди грязи тропке в сторону терема. Я сказала, что догоню.
Запахнув поплотней душегрею и привалившись к срубяной стене гридни, пыталась привести в порядок мысли. Они скакали, словно потревоженные блохи – множественные, неуловимые – и никак невозможно было упорядочить их.
Просверкивали угли костров, поджаривающих туши кабанов, коз, гусей. Переговаривались и пересмеивались костровые. Кто-то наигрывал на волынке, кто-то нестройно и пьяно выводил скабрезную песню на мотив сильской героической «Пхъёвалы». БУхала дверь гридни.
– Государыня пресветлая, – шевелились мои губы на запрокинутом к небу лице, – ясное око Маконы, хтяще назирати персть юдольную, тужную, болящую. Протяни десницу крепку внуце своея. Дай мудрости, дай ясности, рамени, смелости – не для себя, государыня, для земли своей прошу. Мабуть, то не слы дубрежски, мабуть то ныне мое проуставание с захода пришло? Або хубава моя блазнит?..
Тёмный силуэт, загородивший око Маконы, заставил меня вздрогнуть. Железные руки упёрлись в сруб по обе стороны от лица.
– Что, Рыжуха, побалУемся в стожке? – от Миро плеснуло тяжёлым духом сивухи, лука и перебродившего в желудке жареного мяса.
Я упёрлась ему в грудь ладонями.
– Поди себе, – прошипела, дрожа от страха и отвращения, – поди по-хорошему…
Клещи МИровой шуйцы сомкнулись на запястьях привычным движением, пока другая рука, царапая мне ноги трофейным обручьем, задирала подол. Кметь дышал тяжело, взгляд его поплыл, рот приоткрылся… – боги! Да что же это! Я забилась, рыча от злости на собственное бессилие. Брыкнулась, выпростав ногу, прижатую коленом Миро к стене. Он только ругнулся и больно ущипнул за бедро. Я вскрикнула и зарыдала в голос.
Парня от меня отшвырнули.
– Али не видишь, что не люб девке? – мрачно вопросил Межамир. – Али объяснить?
Он взял меня за шиворот и тряхнул. Голова мотнулась как у тряпичной куклы.
– Хорош голосить, люди невесть что подумают…
Подавив рыдание, вдохнула поглубже. Задержала дыхание. Незачем злить брата. А то как бы сама не полетела вслед за кметем кочки по двору считать. Слёзы продолжали течь по лицу, щипля невесть откуда взявшуюся свежую царапину. Сквозь них, притихнув, я смотрела как пытается Миро подняться с четверенек, как шатает его и ведёт. Здорово же упился, вырыпень болотный. Чтоб провалиться тебе трижды, Истолово отродье. Чтоб ни одной девки тебе боле не щупать. Чтоб…
– Всё кочевряжишься? – Межамир тоже наблюдал за бесплодными потугами своего побратима. Он не смотрел на меня. – Чего ждёшь? Ведуса Плешивого в женихи? Али мнишь, глупая девка, Угрицкому князю повезут тебя? – он зло зыркнул в мою сторону. – Заряну они сейчас сговаривают! Слышишь? Заряну!
Он досадливо поддел носком сапога разбитую кем-то крынку.
– Хоть кто-то по пьяни польстился на конопатую. Мужика бы узнала, может, боги смилостивились, и понесла бы. Или так и собираешься впусте век вековать? Седину отца с матерью позорить?
Я сжалась у стены, ожидая увесистого подзатыльника и… мучительно икнула. Межамир уставился на меня ошалело, потом плюнул и ушёл.
* * *
Проснулась среди ночи, да и не смогла боле сомкнуть глаз – таращилась в темноту, ожидая, когда же начнёт сереть рыбий паюс в оконцах. Дождавшись, отбросила стёганое шерстью, тёплое и лёгкое одеяло, принялась торопливо одеваться в зябком сумраке остывшей за ночь горницы.
Заряна тоже зашебуршилась на своей лавке, поднялась, подвязывая понёву и просовывая голову в меховую запону. Обув поршни, подхватила венец со скрыни.
– Не надевай, – бросила я от двери. – Межамир баял, сговорили тебя давеча. Не быть тебе большухой, сестрица.
– А тебе? – сипло осведомилась она. – Тебе кем быть, навка рыжая? Тебе-то что светит в жизни?
– Заряна, ты чего?
– Глаза бы мои на тебя не глядели, мамонь криворылая! Всему, всему безлепию – ты причина! Зря не удавили тебя, истолово отродье в младенчестве! Сама выродок и другим от тебя бессчастье одно. Почто мне за тебя расплачиваться? Сначала судьбу бульшухи от тебя воспринять, потом – судьбу извергнутой из рода? А с тебя – как с гуся вода. Гадина подколодная!
Заряна нахлобучила венец на встрёпанную голову и выскочила за дверь.
Пробудившаяся Мстиша, приподнявшись на локте, недоумённо хлопала сонными глазками.
– Буди малявок, – велела я ей, дрожащими руками подпоясывая запону.
На улице подмораживало. Серый рассвет вызывал неудержимую зевоту у снующих по двору обитателей княжей хоромины. Но чистое небо обещало солнышко днесь. А солнышко обещало быть тёплым – всё же весна давно перевалила серединку-маковку, давно должна бы хозяйничать окрест – придётся ей теперь навёрстывать упущенное…
Всё у меня сегодня не ладилось. Сперва опрокинула полный подойник, потом, споткнувшись с вилами, сыпанула добрую охапку сена в грязь. Коща, приставленная к скоту, обругала меня и велела убираться. Сена было жаль. Его оставалось совсем мало – только для растелившихся коров, да и тем не вдосталь. Ежели травка не проклюнется в ближайшие дни, придётся скотинку на голую солому переводить…
Я присела у просыпанного, стала вылавливать из лужи травинки.
Что же делать? Неужели ничего не изменить? Бедная Заряна. Ведь и в самом деле она в который раз вынуждена брать на себя мою ношу, а я и в самом деле живу в родительском доме, будто меня ничего не касается. А ведь и впрямь не касается – ни лётом, ни скоком, ни задом, ни боком – всё стороной обходит. Будто заколдованная я княжна в заколдованном тереме, не видима я ни для бед, ни для радости…
Я сбросила собранное обратно в лужу, стряхнула с красных, негнущихся от холода пальцев прилипшие травинки, выпрямилась во весь рост, зажмурилась и сжала кулаки. Ой, щур, помоги мне, непутёхе…
Площадка за гридней, отведённая под воинское правило, уже почти просохла. И солнце уж вынырнуло из Нави – яркое, нарядное, будто праздничное. Но упражняющихся кметей было не видать – не мудрено после вчерашней-то попойки.
Единственным воином околачивался здесь сотник Угрицкого князя. Да и то – не мечом махал, а сидел на широкой завалинке, устроив оружие на коленях и подставив лицо солнцу. Рыжие нити в его бороде горели густой медью.
– Не велика дружина твоего князя, коли он сотника во главе посольства отряжает, – сказала я ему, останавливаясь неподалёку.
Он лениво перекатился затылком по стене, посмотрел на меня прищурясь и улыбнулся.
– Чай не велико дело – невесту привезти, – отповедал он, ничуть не обидевшись. – С таким делом и десятник справится.
– Справится, говоришь… А коли матушка раздумывать бы начала? Сомневаться? Вот тут и понадобился бы думный муж, мудростью и опытом житейским наделённый, дабы сговориться к обоюдному согласию.
– Раздумывать? – усмехнулся он. – Вот уж вряд ли. Ваша княгиня в этом сговоре нуждается боле моего князя.
Мы помолчали.
– Твоя правда, сотник. Нуждается. Да только, как видно, и ваша нужда не меньше.
– Отчего же это видно? – фыркнул мой собеседник.
– Оттого, что князь ваш – сирота. Один в роду. Все смотрят сейчас на него и думают – даст ли он новую жизнь угасшему роду? Иначе зачем тогда огород городил: добивался признания, собирал дружину, отстраивал Зборуч? Ожениться ему ныне край надо для упрочения своего положения. А с невестами, видать, туговато приходится, раз в Суломань вас занесло. Вы ведь знаете наши обычаи?
Сотник хмыкнул.
– Наверняка знаете. Поэтому о сулемской невесте думные твоего князя должны были в последнюю очередь вспомнить. Видимо, в последнюю очередь и вспомнили. Когда остальные-то нос отворотили. Так, сотник?
Отлепив, наконец, голову от стены, он с интересом посмотрел на меня.
– Откуда же ты взялась такая грамотная?
– Отсель не видать.
Мы молча взирали друг на друга, пока глаза мои не заслезились от напряжения. Опустив их долу, я шагнула к завалинке и присела рядом с сотником.
– Ты ведь не поболтать пришла? Я верно понял?
Я повертела в пальцах кисточки опояски, вдохнула поглубже…
– Пришла просить.
Кровь прилила к лицу, застучала в ушах глухо, горло стиснули непроизносимые слова:
– Я пришла просить оставить Заряну в роду. Пришла просить не лишать Суломань наследной большухи. Быть матерью народа ведь нелегкая задача. А сёстры малы. Пока вызреют, да оженятся, да науку материнскую переймут…. Мало ли что может за то время случиться, – облизнула сухие губы, нервно потёрла локоть. – По родовому закону с вами должна поехать я.
Сотник молчал, рассматривая меня без всякого выражения. Дрожащими руками я обмахнула с коленей ломкие сенные травинки, собралась с духом, подняла глаза.
– Я понимаю, почему ты выбрал для князя Заряну. Не меня. Не ту, кого должен бы. Княгиня поспешила заверить тебя, что готова на любые условия ради мира с Дубрежью. Готова развенчать будущую большуху… Не скажи она ту фразу на пиру, ты ведь и не задумался бы над выбором, сотник? Взял бы меня?
Сотник задумчиво погладил лежащий на коленях, упакованный в кожаные вытертые ножны двуруч.
– Возьми меня для князя, – я насильно вытолкала застревающие в горле слова. Казалось, испытываемый мною ныне стыд при любом исходе в будущем я буду стараться запрятать в самые дальние уголки тёмных клетей памяти, дабы реже натыкаться на неприятные воспоминания этих минут. А коли нечаянно наткнусь на колючки их, шаря в темноте ночных дум, немедля затолкаю ещё дальше. Поможет ли только? – Возьми, сотник. Не для себя берёшь жену, а государю свому нужду. Пожалей Правду сулемскую. Не топчи её сапогом кованым.
Мой собеседник опёрся локтями на колени, пристально рассматривая землю под ногами.
– Прости, княжна. Не убедила ты меня. О невесте всё уж решено. Перетолмачивать не вижу нужды. А до Правды сулемской мне дела нет. Это вы её блюсти должны – вы же её сами и попираете. При чём здесь я? Моё дело чужеземное – я всего лишь озвучил предложение своего князя, от которого сулемы вольны отказаться, коли с Законом вашим предложение сие в разладе…
Неожиданно вскинув глаза, он недоумённо уставился мимо меня. Я повернула голову. В нашу сторону, оскальзываясь на грязи, ковыляла мора, опираясь на длинный посох. Виданное ли дело – мора на княжьем дворе! Я, открыв рот, следила за её приближением.
– Вот так встреча! – изумился сотник. – Бабка Вежица – ты ли?
– И тебе здравствовать, паря, – ответствовала та, приблизившись. – Совсем одичал, гляжу, по эту сторону Морана. Уж и не вспомнить тебе, дубинушке, как стариков уважить при встрече – а и поклонитися, зад поднямши, а и поздоровати, о делах, о внуцах повыведывати…
Воин рассмеялся, обнял старуху, приподнявшись, похлопал ладонью по её согбенной спине.
– И как же внуки твои, бабка, поживают?
– Неважно, – отрезала та сурово. – Разумом их боги обошли. Чудят, спиногрызы, да дурью маятся. Приехали, стал быть, невесту сватать давеча – и давай перебирать да носами воротить: то масть им не та, то сваха скупа.
Сотник покосился на меня.
– Поди, дева, – бросила мне мора. – Мы тут с воем славным покалякаем о том, о сём. О холодце с поросём…
* * *
День отъезда выдался погожим и солнечным. Вся Болонь толпилась на княжьем дворе, да за оградой, да вдоль Большой улицы – сулемы провожали свою княжну в чужие земли. В чужой род.
Народ переговаривался негромко, настороженно поглядывая на красное крыльцо княжеского терема. Как отнестись к небывалому сговору, нарушившему сулемскую Правду? Как проводить княжну – с надеждой на скорый мир или со страхом отступничества от Закона пращуров, не давших запрошенного у них большухой благословения на совершаемое? Промолчали. Не одобрили. И оттого людям было не по себе. Ибо впервые они задумали деяние, не освящённое ладом предков. Топтались ныне на ласковом Варуновом припёке и чувствовали себя татями, чинящими непотребство, и обмирала душа в ожидании неминуемого воздаяния. Но никто не роптал. Знали все почему большуха поступает так. Разве не выражает она волю народа? Разве волей народа не является его выживание? Разве непременным условием выживания ныне не является мир с Дубрежью и союз против Сили?..
Не успели петухи проорать третью зарю, как на крыльце появилась большуха с мужем да Угрицкий сотник, крепко держащий за руку невесту.
Князья поклонились народу и остались стоять наверху, наблюдая за сошествием невесты с высоких ступеней. Позвякивали длинные чернёные колты, прицепленные к скромному невестиному увяслу, вспыхивала белым в лучах разгорающегося солнца праздничная вышитая рубаха, заметала половицы длинная епанча…
Сотник подсадил невесту на гнедую кобылицу, вскочил в седло сам. Отвесил в сторону красного крыльца лёгкий поклон и тронул поводья, понукая коня пятками. Поравнявшись с невестой, неожиданно накинул ей на голову плачею. Белое полотно покрыло лицо и спину, спрятав, по полянскому обычаю, сговоренную от недобрых глаз и ревнивых навий.
Толпа загудела растревоженным ульем, только сейчас, казалось, осознав происходящее. Чужой обычай, не принятый у сулемов, ярко высветил суть совершённого: сторговали сулемы деву свою, словно кощу последнюю – выгодно, с наваром; исторгли из рода-племени без всякой провинности, обрубив живую веточку на увядающем древе племени. Не стоять в Болони ещё одному большому общинному дому, полному чад и домочадцев, не рождаться в нём крепким воинам и светлым девам. Охти нам, сиромахам…
Толпа вспухла, как подходящее тесто, надрывно охнула, качнулась растерянно…
– Люди мои! – воззвала большуха. Глубокий, низкий голос плыл над толпой, усмиряя, успокаивая, остужая. – Сурожь одобрила выбор княжны вашей. В этой жертве – её судьба. Недаром небесные пряхи не спряли ей ни большухина венца, ни жениха из славных сулемов. Они готовили ей иную долю. Не лучшую долю. Но нам ли судить? Такова их воля. И в этой воле – спасение Суломани. Разве не об этом мы молили богов все лета невзгод? Разве не просили помощи, какова бы она ни была? Так вот же оно – спасение наше! Будьте готовы принять его и уплатить за него! И будьте готовы не осудить меня…
Я откинула с лица полотно за спину и улыбнулась народу. В кружащихся вокруг меня бесчисленных очах был интерес, сожаление, восторг, слёзы… Не было только насмешки и презрения, как ране.
Поклонившись на все четыре стороны, я тронула с места кобылицу. Она вынесла меня за ворота, протрусила важно по Большой улице, ступила за ограду… Я не обернулась. Позади меня шумел длинный поезд из кметей Угрицкого князя да Межамира с дружинниками, да повозок с фуражём и коштом. Чего на него оборачиваться? А родную Болонь я бы всё одно не разглядела сквозь бликующую воду слёз…
* * *
– Зря ты это сделал, – буркнула я подошедшему сотнику на первом привале. – Зачем нужно было народ баламутить плачеей этой? Люди и так в смятении от сотворившегося…
– В смятении, как же, – усмехнулся он, протягивая мне мису с наваристой кашей. Я удивилась, но взяла, хмуря брови. – Рады, небось, без памяти, что сторговали выгодно единокровницу свою.
Ох, ты ж, бирев угрицкий… Всё-то про всех ведаешь, всё за всех чувствуешь. Тебе ли, наёмнику, судить нас, день за днём, лето за летом тяжело отбивающих у судьбы право существовать, право называться народом, право на свою землю?
Я не стала объяснять. Коли сам не видит, другие глаза не вставишь. Уж убеждалась в том не раз – люди упорны в своих суждениях. Смотрят на мир сквозь них и встраивают мир в них, а не наоборот, как, по моему скудоумному размышлению, должно бы. Что здесь поделаешь…
– Тебе не понять.
– Куда нам, дуракам, чай пить, – он резко поднялся на ноги. – Прошу тебя, княжна, богов ради, надень на голову ты эту тряпку! А то как бы и мои кмети в смятение не пришли, наблюдая столь явное попирание традиций. Сама напросилась на роль невесты, так уж изволь ею казаться не только прощаясь со своими возлюбленными сулемами, но и перед тем народом, которому теперь принадлежишь.
Он отошёл. Держена, молча слушавшая наш разговор, сплюнула в траву сосновую шелуху, попавшую в кашу.
– Индюк надутый, – пробормотала она и продолжила загребать кленовой ложкой горячее варево.
А мне есть что-то расхотелось.
До сих пор не могу понять, как это случилось. Как случилось, что я еду среди дружины загадочного Угрицкого князя ему невестой – я, а не Заряна? Никогда не думала, что со мной произойдёт подобное на самом деле. Даже решившись памятным для меня утром на разговор с сотником, пускаясь в объяснения и униженные просьбы, прилагая все силы для того, чтобы изменить его решение, была уверена, что изменить мне его не удастся. Зато, думала, потом не стану корить себя за бездействие, за неспособность (или нежелание?) помочь сестре: помочь, поддержать, перехватить у неё свою ношу – СВОЮ, не её! – ношу жертвы, принесённой на алтарь блага своего народа.
Когда Межамиров кощ позвал меня на собор, я, наскоро переодевшись, отправилась выслушать о деле решённом, пожалковать о сестре, сглотнув в очередной раз горький стыд своей виновности в её горькой судьбе и – испытать огромное облегчение, что доля моя меня вновь минула, оставив в тепле и сумраке определённости.
В большом печном срубе, где у северной стены потрескивала жарко государыня-печь, освящающая решения большухи честным огнём, рассаживались по лавкам думные. Вон и посадник Болонский, и старосты ближайших селений – Нырищ да Забурачья. А вот и угрицкий сотник с ближниками. Заряна в большухином венце, бледная как полотно. Межамир, старший княжич, да Болеслав – третьяк наш, опосля меня да Заряны рождённый. Второй сын княгини, Воин, со своей сотней ныне в разъездах приграничных.
Я присела на лавку у двери – подальше от сестрицы ярой, подальше от глаз людских.
– Подобру вам, люди думные, – поздоровалась княгиня, ворвавшись стремительным ветром через боковую дверь, опустилась на резной столец у печи. – И вам поздорову, гости дорогие. С добром ли, с худом пожаловали?
Угрицкий сотник встал с места, поклонился княгине да князю, стоящему за её правым плечом.
– Мстится нам, с радостью великой да надеждой долгожданной, государыня княгиня, – молвил он. – Рады мы будем, коли сулемам наша весть столь же блага покажется, какой мы её видим. Мой князь говорит: устали два полянских народа – сулемы да дубрежи – заносить боевые секиры над головами друг друга, устали удобрять давно не распахиваемые поля плотью братьев своих. Князь дубрежский говорит: не пора ли накрыть окровавленные нивы браным свадебным полотном, дабы согласие воцарилось в мире?