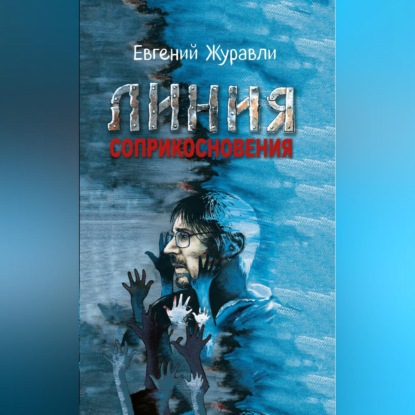Полная версия
Пойма. Курск в преддверии нашествия
– Подожди, у меня ещё есть полтора месяца в запасе. Да и у тебя тоже.
– А потом?
– А потом там видно будет.
– То есть ты сегодня притащился, чтобы сделать мне завтрак? Это типа искупление вины?
Никита передёрнул плечами, чмокнул Нику в лоб и выбежал в сияющий день.
Ника со стоном повалилась обратно на свое деревянное ложе.
Отчего-то в ней смешалась радость и обида одновременно.
И теперь она действительно не знала, что делать дальше.
4.
Ждали уже хоть чего-нибудь. Хоть какого-то движения, считая потери с обеих сторон.
Страшно было не дождаться, уйти раньше. Сколько уже ушло? Сколько молчаливых подвигов совершили, отдали завоёванного, сколько лишились по глупости? Ну не слышны блестящие имена военачальников, нет их в этой войне. Нет ни одного! А если есть, то все они засекречены, скрыты, спрятаны, чтоб не расшатать московские сезоны, покой туристов и копошение гастарбайтеров. Нет сильных имён, нет героических Карбышевых, Рокоссовских, Космодемьянских даже. А всё потому, что не дают русской гордости подняться выше травы, не дают, боятся главные и важные и нечестные человеки того, что, получив военное признание, народную любовь, найдётся такой, что развернёт орудия против их же самих. Что придёт недовольный, несчастный, годами унижаемый человек с войны, с оружием придёт, и тогда девяностые годы покажутся нам детской песочницей, так будет наводить порядок этот вчерашний униженный и оскорблённый.
Есть славные командиры, боевые, мудрые, но и их имена пока со стыдом и ущемлением вешают на рекламных щитах, меняя твердолицых воинов на рекламку нового коттеджного посёлка какого-нибудь «вилладж панамера» или «квартиры в молодой Москве».
Стыдно и больно ступить на землю, где люди не понимают, что подошла война совсем близко, вот она стучит свинцовой челюстью, царапает подкорку столичных магистралей, хочет проткнуть щупиком площадную облицовку, отколупнуть людей от устричных фестивалей и согнать их с Патриков, где заоблачное равнодушие вызывает у одних гнев, у других оторопь, а третьи в нём живут.
Никита вернулся из зоны боевых действий в село, где родился сорок лет назад. В огород его матери уже падали снаряды. Они оставляли неглубокие ямки, словно это ведьма прошлась и наделала потвор на усыхание хозяйства. Огород брат Алёшка не посадил, обленился в последнее время, да и не мог побороть страх перед прилетами, ховался в погреб за хатой, прихватив с собой кусок хлеба с салом: остальная провизия давно была там. И пока гремело, думал, не попадут ли осколки в теплицу, где доспевали шерстистые, бурые помидоры. Алёшка был старше Никиты на двенадцать лет и в детстве возился с ним. Он в юности упал с дерева и повредил голову так опасно, что ему сделали трепанацию. С тех пор Алёшка пополнел, плохо слышал, часто падал в обмороки. Не женился, хотя в молодости слыл самым красивым парнем в округе. Увы, после пятидесяти он уже не вылезал из тулупа, работал в доме-интернате для психически нездоровых людей, в конце набережной улицы, слесарил и что-то там делал по хозяйственной части.
Странно равнодушно он теперь вёл себя по отношению к Никите. И жил в соседней хате, которую выкупил у дедка по местному наименованию Борман.
В пять, в шесть утра над домом летели на Чугуев «Аллигаторы».
Или низко над речными вербами, брея и сминая воду, шли «сушки».
Они делали два-три выдоха, и там, за кордоном, разносилась одышка детонации. Попали. «Сушки» возвращались.
Никита с юности мечтал о войне, но она была не такой, какой он её въяве увидел. Ах, насколько другой была война в его голове! Он болел книгами Сенкевича и Пикуля не потому, что они чуть ли не единственные про именно такую войну, которая его занимала, были в библиотеке, а потому, что описываемые в них события ложились ровно на соседние области, на те области, откуда пришли предки Никиты в том самом XVII веке, при гетмане Мазепе.
А ещё кругом пахли и колосились те самые степи, по которым растерял Игорь свой легендарный полк в походе на половцев. Рядом лежал врастяжку, кинув змеиные холмистые дороги вдоль Сейма? городок Рыльск. А чуть ниже по течению, на украинской земле, Путивль, сейчас уже затрапезный городишко, но имеющий для каждого русского звонкую память.
Чуть только не хватало Никитиной войне звона мечей о червленые щиты, летящих над копьями бунчуков, романтической красоты, трещащих крылатых гусар Речи Посполитой, цапельных перьев на шляпах шляхтичей, обложенных серебром люлек козацких. Он вырос и так же мечтал перерыскивать поля и балки, защищать слабых и творить праведный суд над всякими хулиганами, надеясь, что у него тоже будет своя война.
В основном, то, что он читал в сельской библиотеке, были книги исторических приключений. Беллетристика.
И теперь хохлы присягнули ляхам, кровным врагам русских.
Мало ли что не укладывалось в голове Никиты? Не укладывалось многое.
Например, он не заметил, как прошло почти двадцать лет его служению Отечеству. Как он уже имеет высшее офицерское звание и где только не побывал. И был вызван на эту операцию из Африки, как на нечто эпохальное.
И холодные месяцы он провел в обыкновенной солдатской недоле. В холоде, в тревоге, в непонимании. Ничего не было ясно.
Они вошли в страну, где их ждали с оружием, чистосердечно думая, что перед ними упадут любые твердыни. Да и какие твердыни у хохлов?
С самого начала спецоперации он слишком много говорил и спрашивал.
За это Никиту послали в Мариуполь. Возможно, чтобы он не говорил о том, что эта война ещё не осознала, что она война. Что ещё только избранные знают, что и как делать с вооруженной до зубов, вы-ученной Западом украинской армией.
А его ребята, в плохо пошитой форме, с нищенскими брониками, которые они сами усиливали бог весть чем, частично одетые, как ополченцы наполеоновского времени, могли сыграть только славой предков. Кроме славы предков и «засапожного ножа» у них мало что было для исполнения приказов. И эти львы гибли у него на глазах сотнями.
От обиды у Никиты темнело в глазах, но это была обида верховая, стелющаяся. И самое страшное было то, что если он и сумел сжиться с фатальной несправедливостью войны, привыкнуть к ней, пока она не пожрала детей своих, то здесь и сейчас, оказавшись лицом к лицу с бюрократическим аппаратом, с молчанием верхов и немощью низов, столбенел и немел.
Неожиданно душевная боль была перебита физической. Он вывозил из разрушенного Мариуполя человека, как ему казалось, родного, его односельчанина Серёгу Берёзова, встреченного во врагах. Они оказались вместе, в одном подъезде, по ним работал украинский снайпер, считая, что Серёга сдался в плен, чтобы спастись. Он совсем недавно ушёл добровольцем из Сум, в один день решив это. И каково было удивление Никиты, когда он узнал в раненом враге товарища из параллельного класса?
Вывозил он Серёгу из города на гражданском автобусе, вместе с беженцами, но не успел доехать до своих, хоть и спас их, а сам пострадал. Потом был госпиталь, где он месяц пролежал, слушая, как работает арта, и надеясь, что ему недолго осталось жить, потому что он не знал зачем. И скольких из своей сумской и харьковской родни он ещё встретит тут, ранит, убьёт?
Он не знал зачем, пока не пришел его лечащий врач, не обнадёжил, что прогресс даст ему ещё возможность погеройствовать, а голова, это главное, цела… Так его отправили домой. На месяц, хотя бы на месяц.
И он, подъехав к Ломовой, вышел из машины и выпил воды из реки, зачерпнув горстью больной руки.
Через кожу были видны пластины и штифты. Никита поднял руку и закрыл солнце. Теперь он никогда не сможет больше взять СВД, никогда не сможет взять «винт». Неужели эта его война закончилась, толком не начавшись? Но пусть он отлежится и вернётся. В последний раз вдохнет родных трав, покоса, тягучей опары вспаханной земли и отмоется в реке, которая помнила его младенцем.
Никита и не думал, что его ждёт. А ждало его ошеломление.
* * *В самом начале СВО, ещё находясь под Красным Лиманом, он недоумевал, по какому принципу пошли воевать все эти люди? Многие шли защищать свою землю, которую у них забрали ещё восемь лет назад. И тогда они по каким-то причинам, не смогли взять её обратно. Теперь те люди обтёрлись и приспособились к постоянной войне. Кто-то погиб, кто-то устал, но даже тяжелораненые возвращались в строй.
Никита долгое время работал на другом полюсе военного дела. Он не воевал вот так, в полях и лесах, воевал в других странах и в штабе и руководил людьми не в военной форме, а в хороших гражданских костюмах. Здесь была не его стихия, среди выбритых артой лесополок и очевидного незнания «что делать» молодым командным составом.
Теперь же он понадобился и здесь. Но вот странность… здесь всё было нужно начинать сначала. И вспоминать учебные тренировки, годы института, когда всё начиналось, а начиналось всё с выкладки, грязи, холода и боли. С экспериментов над человеческой выносливостью, той, мальчишеской. Не с плавки или ковки. С вымывания железной руды из болотных почв.
Никите в годы работы даже вспоминать об этом не хотелось. Но в этот год пришлось.
Так же он ползал по иглистым лесным холмам, проваливался в битый щебень городской застройки, доставал из-под завалов то, что осталось от людей, вдыхал войну такую, которую никогда не нюхал прежде, работая кабинетным офицером, умеющим только очень однозадачно выполнять приказы из неких высших сфер.
Ошеломленный, он провоевал всего то с февраля по сентябрь. Уже в сентябре, в госпитале, когда он получил правительственную награду, его потянуло обратно, на передовую. Но ранение головы и несколько операций на кисти, которую спасти удалось лишь частично, уничтожили его решимость. И вдруг странное чувство избранности посетило его.
Постоянно к нему приезжала жена, притаскивались волонтёры, артисты, администрация, школьники…Через три месяца было награждение за прорыв. Он получил Звезду Героя. Стал вторым Героем в истории своего села. Первый был активным участником Пресненского восстания в 1905 году. А он, Никита Цуканов, стал вторым.
Новое ошеломление постигло его. Если раньше он был своим в этом маленьком вымирающем селе, таким же, как все, но только «чутка поумнее», ибо вырвался, выучился и стал зарабатывать не в пример остальным… то теперь он Герой. Он герой совершенно конкретного подвига. С ним начинают уважительно разговаривать. Его встречают как значимого человека. Ему открыты все двери.
Это звезда на его груди такого наделала.
Он думал, что без неё, в сущности, теперь он сам? Спрячь эту звезду, и он превратится в обычного сельского мужика. Но нет. Припечатало его знатно.
– Возможно… я решу чьи – то проблемы, – успокаивал себя Никита.
– Так, так… но не свои… – отвечал он сам себе.
Село Надеждино основали два брата, Платон и Серафим Надеждины, в конце XVII века. В те времена они пришли на эти земли, тогда ещё дикие, заросшие ковылём, да мятликом, щитовыми травами времён последнего оледенения. Они видели в степи каменных «баб», стоящих тут едва ли не тысячи лет, они видели бегущие реки, и протоки, и шляхи, и сакмы татарские, по которым века и века гнали на юг пленных славян, пока не выбрали дочиста целые города…
Тогда, при царе Алексее Михайловиче Тишайшем, Русь подняла и расправила плечи после смут и чёрных воинственных лет, и эти места, заселённые казаками-черкасами, превратились в мирные земли. Хоть и напоминали о казаках сейчас только названия улиц: Станица, Руев Шлях, Старая Засека.
Жили здесь по-прежнему, по-особенному, вобрав две культуры, великорусскую и малороссийскую, в одну.
Так-же оставались уже не казаками вольными, а господскими и государственными крестьянами. Тут были и помещицкие земли, и монастырские. Хаты крыли тростником и черепицей, дворы имели небольшие, хозяйство вели в каждом уезде по-своему. Кто-то после отмены крепостного права забогател, кто-то из малоземельных получил наделы по столыпинской реформе и «сшёл» обосновываться на Урале и в Сибири.
Но вызнать истинную историю заселения этих степей, как Никита ни хотел, не мог. То не допускали в архивы, то нечего было искать. Многое сгорело в огне Второй мировой.
По крупицам и Ника восстанавливала какую-то внятную повесть тутошней жизни, но постоянно проваливалась в подземелья и лакуны, и очень часто её осекали и останавливали в поисках недосказанность и недостаток информации. А ещё засекреченность, какой нет ни в одном государстве мира. Секретно было всё: зарплаты начальников, списки полицаев, количество погибших в войнах… О некоторых эпизодах Отечественной войны местные просто не знали. Потому что администрации было лень выделять деньги на таблички о увековечивании подвигов. Потому что как спали они в братской могиле под берёзами ещё с советского времени, так и спали.
Никита жил на Набережной улице, где река, чуть изогнувшись, рябила утишённым плотинами течением и поросла уже от этого деревьями по берегам, которых раньше не было.
В старые времена, лет сто назад, течение было настолько быстрым, что сбивало с ног, а ледоход по весне тащил суровые торосы и ломти льдин с такой ленивой мощью, что сметал любую выросшую за прошлое лето растительность по правому берегу, а с левого вгрызался в надпойменные террасы, вымывал песок и обнажал, лежащие мамонтовыми лбами, ледниковые валуны.
Тогда ещё из окон Никитиного дома, который строил прадед, далеко за рекой была видна даль в цветах побежалости, словно её, стальную по осени и после схода снега, закаливали в торжествующем огне жизни. Там когда-то в сторону Стрелецкой степи уходили шляхи кочевых стражей, строились над реками засеки и не раз слышали заросшие бессмертником балки гиканье «станиц», передвижных казачьих отрядов.
И как Ника, он тоже только сейчас открыл в себе странное желание впитать эти краски, пока жив и сам не стал сивым, как трава. До этого осталось всего-то ничего. И казалось, что последняя цветность, жадность, алчная страсть к любви и жизни, как есть последняя, может ещё обжечь и облечь в сияние давно закаменевшее сердце и он не будет ещё смешон, потому что цветение его пока только-только немного побледнело, но ещё не увяло и не осыпалось.
Встреча у кладбища ничего не определила, только удивила Никиту, что вот, нежданное состоялось.
Он и не ждал, давно уже отпустив себя на полную волю. Да, было такое по-юности, он, влюблённый в Нику, бегал за ней, как дурак. Отбивал её у других парней. Потом добился своего, они начали жизнь нервную и неровную, взрослую. Он и она приехали в Москву, она поступила в МГУ, он же не смог поступить в Сеченова, несмотря на золотую медаль и красный диплом. От расстройства поехал обратно, в Надеждино, и год ходил к кадетам, чтобы подготовиться к поступление в РВУ, но тоже пролетел. И на следующий год его забрали в армию, откуда он уже поступил на факультет военной разведки. Ника уже училась на третьем курсе. Встречались они время от времени, и в самый неподходящий момент, довстречались до логического конца. Отец и мать Ники, родители Никиты были против их брака и рождения ребёнка. Ни с одной стороны, ни с другой помощи им не было. Да и Никита выбрал тогда службу Родине. А Нику никто ни о чём и вовсе не спросил.
Они разошлись по нескольким причинам, так друг другу ничего и не пообещав. Разошлись так далеко, что очень долго не могли даже слышать друг о друге. Но время примирило их. Приходили другие люди в их жизни, но они не оставляли друг друга и выживали всех других. Все другие оказались лишними.
Оставив только письмишки да открыточки, а остальное замазав густо другими красками, Ника тяжелее переносила это предательство, но разве она могла тягаться с чем-то, что было выше и сильнее её?
Это со стороны Никиты она, что впервые тронула его сердце, была только ступенью дальше. И совсем иным был для Ники Никита. Человек, который, как Одиссей, пришёл ли, ушёл ли, но был всегда рядом. И даже больше. Он был её героем, её молчаливым спутником, её беспросветным ожиданием.
Теперь же, что было делать в этих новых обстоятельствах, Никита не знал и решил, что пусть его несёт по течению. Он ведь родился на реке.
5.
До Никиного дома от Никиты всего-то три поворота дороги, мимо клуба, через кривую песчаную тропинку по холму, и через старое кладбище, которое засыпали сразу после войны. Там были похоронены отцы-основатели села и их потомки.
Село Надеждино прилепилось к слиянию двух рек, Псёла и Ломовой, и дальше выгнулось коромыслом до искусственно посаженного соснового леса, отделяющего райцентр от этого тихого места. Приросли огороды к рекам, а дома к огородам. Такая южнорусская, да и вообще русская традиция: селиться на реках, ручьях и озёрах.
По заасфальтированной только в начале девяностых дороге нужно было проехать переезд – и вот уже старая часть Надеждино, бывший богатый хутор Апасово, который сейчас административно отделился, хоть и почти сливался с последними улицами села, сейчас накрепко заросшими кленовым мусорным деревьём.
Словом, чтобы попасть по дороге в райцентр из Надеждино, нужно было обязательно проехать через Апасово, где в бывших княжеских каменных постройках сидел сельсовет, которым уже тридцать лет почти управляла нехорошая семья Одежонковых.
Говорили, что в девяностых жена главы сельсовета Васи Одежонкова, мелкого рэкетира, работала то ли в эскорте, то ли в стриптизе. И за то, что она часто приходила на работу в сельсовет в суперкоротких мини-юбках, в сапогах-ботфортах и с накрашенными сдвинутыми бровями, гаркала на всех, визжала на мужа в неизменно малиновом несъёмном пиджаке и гнобила местных бюджетников, людская молва её прозвала Несмеяной.
Сейчас Одежонковы постарели. Стали тише. Вася даже пиджак от сердца оторвал. Воровали почти незаметно, но тем не менее натаскали из сельского бюджета себе на каменный дом в Надеждино, плюхнув его прямо позади магазина, на бывшем церковном кладбище, на высоком берегу реки, с видом на водную гладь. Место было «козырное», лучше вида не найти.
Пока загибался местный колхоз, проданный по частям Одежонковым и его сюзереншей, главой района Дербенёвой, эти местные творцы дворцов и скупщики брошенных крестьянских наделов и невостребованных домишек на берегу ворочали себе рулём и плыли в сторону достатка.
Но теперь их белые дворцы и катера изумительно просматривались с украинской стороны. Можно было хоть каждый день включать «химарей» и сметать их. Но пока наши на границе ждали наступления, арта врага палила по более близким гражданским объектам. Упорно и нагло, меж разрушающихся хаток электората высились дачи глав, главных инженеров, главных энергетиков, главных лесников и главных рыбнадзорщиков. В этом тихом, маленьком «самсебе государстве» можно было тихо тащить себе всё, что плохо лежит, разворачивать дышло закона как было им угодно и совсем, как и встарь, не обращать внимание на биомусор, местных жителей, которые по большей части выживали, находясь в кредитном рабстве.
Как только Ника приехала в Надеждино и пришла разбираться с документами на дом в райцентровский БТИ, Одежонковы и Дербенёва задумались. Им тут совсем не нужна была журналистка. Им поперёк вставало любопытство пришлого человека, да ещё в такое опасное время!
К Нике иногда подходили крупные люди в штатском и несколько раз предупреждали её, что, если она тут что-нибудь снимет, её посадят за дискредитацию армии или просто накажут. Потому что район приграничный, а она сливает позиции.
Ника и в уме не держала злиться и кидать говно на вентилятор, пока подруга Манюшка не добавила её в чатик села в вацапе. Технологии проникли сюда несколько лет назад, вместе с устойчивой сотовой связью. За эти технологии были положены последние скотьи головы, изведены стада домашней птицы и заброшены огороды с картошкой. Технологии и социальные сети сдвинули мозговой пласт тружеников села, и теперь, дети девяностых, которых воспитывать было некогда, родили своих детей, которые, живя в деревне, никогда не держали в руках косы, топора или клубка ниток. Бабули вымерли как-то разом, отскрипели песнями, отговорили суржиком, а на дедов надежды не было. Они умирали рано, и до семидесяти если кто-то из мужиков и дотягивал, то уже в развалившемся состоянии. Таково было лицо русского народа в условиях дикого капитализма. Даже те, кто пытался что-то изменить в лучшую сторону, обсказать проблему и предложить пути решения, натыкался на монолитную стену из спаянных общей недолей верхов и низов.
Соседи, которые основательно обжились по соседству с Никиным домиком, носили прозвище «манитушники», за то, что отец семейства Илья, в просторечии Люшка, работал на тракторе «Маниту». Ни за что они яростно проходились по Нике в чатике и за глаза, надеясь, что её там нет и она ничего не услышит.
Дело было в том, что дом бабули стоял заброшенным уже около двадцати лет. Одинокая тётка, сестра Никиной бабушки, ещё до войны вышедшая замуж в столицу, но бездетная, отписала племяннице, матери Ники, две квартиры в Москве и коттедж в Подмосковье, и свалившееся на бывших сельских жителей богатство решило судьбу целой семьи. В Надеждино их мгновенно возненавидели. К счастью, к тому времени Ника уже отучилась и поступила в университет, а отец умер, когда Ника была на третьем курсе.
Домик бабушки, граничащий по одной стороне с такой же давно брошенной хатой под черепицей, единственной сохранившейся после войны, да и то потому, что там во время оккупации стоял немецкий офицер, и с другой – с пустым домом, вызывал ярость местных. Регулярно пьющие надеждинцы ходили к запустошенной усадьбе что-нибудь вынести. И никто им не препятствовал. Ника приезжала проведать могилы бабушки и прадедов, но разве она могла противодействовать этим очередям пропитых Жень, Тань и Жориков?
«Манитушниками» новых соседей называла старая подружка Ники Лариса Голенко.
У неё тоже была личная история посильнее, чем Фауст Гёте.
Соседний опустевший дом год не могли продать, хоть он был с просторным двором и санузлом, с газом и прекрасным видом на лесную опушку. А тут раз… и неожиданно его купил парень из ДНР.
Он приехал ещё в четырнадцатом году и работал на арендатора в Апасово. Но между тем этот парень искал жену.
Девчат, правда, в Надеждино осталось: по пальцам одной руки пересчитать. И Ника, недолго думая, увидав парня, довольно симпатичного, но со шрамом на пол-лица, что свидетельствовало о его боевитом характере, посоветовала сдружиться с Катеринкой, девкой с Набережной.
Ника с ней общалась в Москве, когда Катеринка приезжала работать продавщицей и, загуляв, родила сына от грузчика. Ника и её родители помогали Катеринке, так как она была своя и одна в большом городе, да ещё и беременная.
Катеринка вскоре уехала, не устроившись в Москве, в Надеждино, сына отдала матери с отцом, а сама работала в Апасовском пивбаре.
Там же купила маленький домишко и, когда сын подрос, забрала его у пьющей матери, которая смертным боем дралась с отцом на глазах у ребенка.
Сама Катеринка была лупатой, белобрысой, угловатой и губастой, с дурным голосом и любила выпить. Но к своей белёсой внешности у неё был золотой характер: во-первых, работящий, а во-вторых, безотказный. Правда, как позже догадалась Ника, обстоятельства скоропостижного замужества всё-таки изменили Катеринку.
Как-то раз Ника приехала навестить дом и увидела её в магазине, где в углу, на коробках из-под бакалеи, сидел в телефоне чернявый мальчонка лет пяти.
Катеринка уже эротически связалась с хозяином магазина и пивбара и часто выпивала. У неё даже хотели забрать мелкого.
– Ох, бедняга. Тебе надо замуж… – сказала тогда Ника, искренне пожалев Катеринку.
Та только зашмыгала носом:
– Да кто ж меня возьмёт… с этим вот…
И буквально через пару лет объявился Люшка, то есть Илья.
Он взял в долг деньги у арендатора, работал на него почти как раб, без выходных и проходных, но оказался таким же золотым и безотказным, то есть слыл незаменимой трудовой единицей.
Он бы никогда не встретил Катеринку, если бы не Ника.
Люшка однажды вечером, узнав о том, что продаётся дом, приехал на мопеде с породистой собакой шарпеем из Апасово в Надеждино. Шарпей бежал позади мопеда и нюхал позднюю лесную весну.
Был вечер, цвели акации, пахло мёдом и свежестью из бора. Над дорогой, цвирикали крылышками стрекозы.
Люшка ходил по дороге, рассматривал дом, потом подъехал хозяин из райцентра, открыл двор, походил и уехал.
Ника в это время сидела на перевёрнутой лодке с Манюшкой, напротив двора, стараясь обдумать, с чего начать восстановление родительских руин, грызла семечки и шутила про то, что появился первый «путний» парень за столько лет. Да ещё холостой, что совсем чудно!
– Но для меня он старый! – сказала Манюшка, деловито выгибая лебединую шею. – Я молодятину люблю!
– Да ладно… ему на вид лет тридцать!
– А мне подавай двадцать!