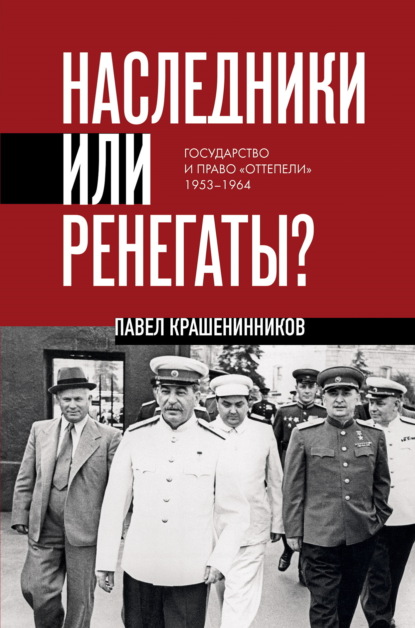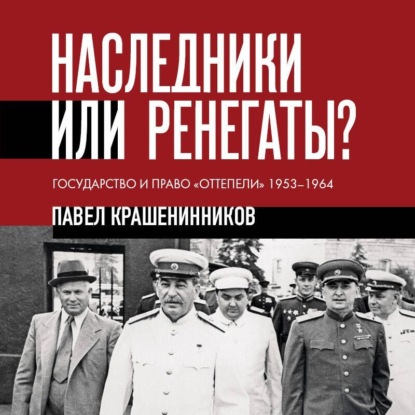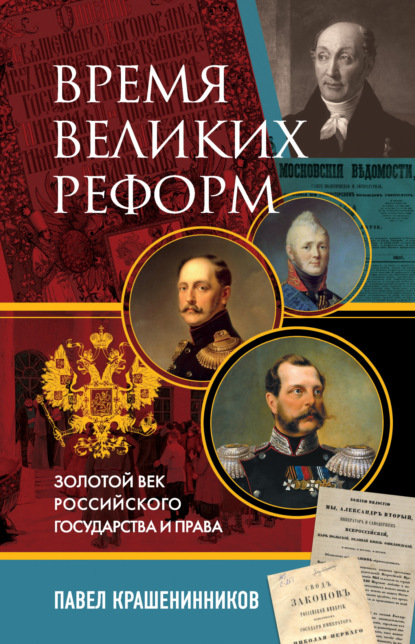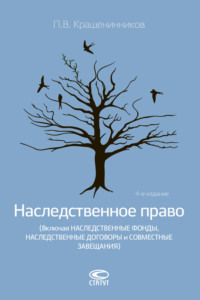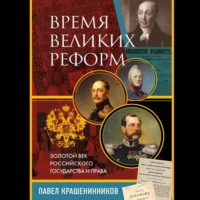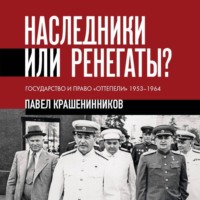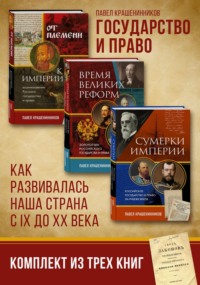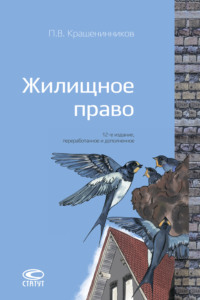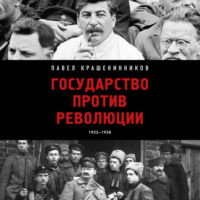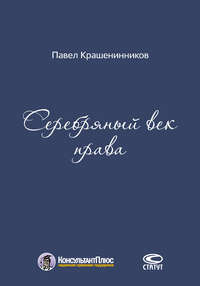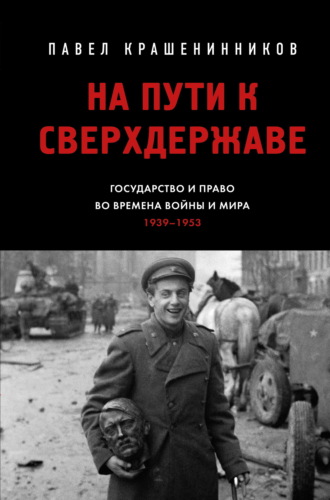
Полная версия
На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира (1939–1953)
После капитуляции Франции Германия 19 июля 1940 г. предложила Великобритании мир без всяких условий, однако Соединенное Королевство 22 июля это предложение отклонило. И тогда 16 июля 1940 г. Гитлер издал директиву о вторжении. С августа немцы начали бомбардировки Великобритании с целью подорвать ее военно-экономический потенциал, деморализовать население, подготовить вторжение и в конечном счете принудить страну к капитуляции. Несмотря на то что англичане понесли в ходе бомбардировок большие потери среди мирного населения, им удалось выстоять в этой битве: Германия была вынуждена отказаться от проведения десантной операции. Добиться своей главной цели – полностью вывести Великобританию из войны – немцам так и не удалось.
11 июня 1940 г. итальянские войска начали боевые действия за контроль над Средиземноморьем, Северной и Восточной Африкой. Боевые действия велись в Эфиопии, Сомали, Кении и Судане, Габоне, Сенегале, Египте, Эритрее.
В 1939 г. Италия оккупировала Албанию, а 28 октября 1940 г. начала вторжение в Грецию. Однако итальянский блицкриг не удался, и Муссолини пришлось попросить помощи у Гитлера. 30 апреля 1941 г. Греция пала под мощным ударом вермахта.
С первых дней Второй мировой войны содружество Германии и Италии начало обрастать союзниками. В их число вошли: Словакия (1 сентября 1939 г.); Албания (10 июня 1940 г.); Венгрия (11 апреля 1941 г.); Ирак (1 мая 1941 г.); Румыния, Хорватия, Финляндия (июнь 1941 г.); Япония, Маньчжоу-Го (7 декабря 1941 г.); Болгария (13 декабря 1941 г.).
6 апреля 1941 г., после массированной бомбардировки крупных городов, железнодорожных узлов и аэродромов, Германия и Венгрия вторглись в Югославию. 11 апреля лидер хорватских нацистов Анте Павелич провозгласил независимость Хорватии и призвал хорватов покинуть ряды югославской армии. 17 апреля югославская армия капитулировала.
22 июня 1941 г. Германия напала на Советский Союз – началась Великая Отечественная война, стоившая десятков миллионов человеческих жизней, во много раз большего числа поломанных судеб людей, а также огромных материальных потерь государствам, на территории которых велись боевые действия.
Сразу же после вторжения Германии в СССР представители Великобритании и США заявили о своей поддержке Советскому Союзу и с октября 1941 г. начали оказывать ему экономическую помощь.
Через пять месяцев после начала Великой Отечественной войны, 7 декабря 1941 г., Япония напала на американскую военно-морскую базу Пёрл-Харбор. США вступили во Вторую мировую войну. 1 января 1942 г. в Вашингтоне представители «Большой четверки» (СССР, США, Великобритании и Китая) подписали Декларацию Объединенных Наций, положив тем самым начало антигитлеровской коалиции. Позднее к ней присоединились еще 22 страны.
§ 2. СССР накануне Великой Отечественной войны
Великобритания, Франция и США не любили нацистскую Германию и фашистскую Италию не только и не столько за тоталитаризм, сколько за стремление переустроить мир в соответствии с их интересами. Однако генетически свойственный режимам Муссолини и Гитлера антикоммунизм (собственно, элиты и продвигали их как панацею от угрозы коммунистической революции) вызывал у них определенное сочувствие.
Свою антикоммунистическую сущность нацистская Германия проявляла, уничтожая коммунистов и их организации не только внутри страны, но и вне ее. 25 ноября 1936 г. в Берлине был заключен договор с Японией о совместной деятельности в борьбе против Коммунистического интернационала (Коминтерна) с целью не допустить распространения коммунистической идеологии в мире. В ноябре 1937 г. к пакту присоединилась Италия.
Советский Союз собирался переустроить мир в соответствии с заповедями Маркса-Ленина. Правда, после огосударствления и бюрократизации марксистско-ленинского учения мировая революция все больше походила на экспансионистские устремления советской империи, стремящейся расшириться до «республик этак из тридцати-сорока»[27]. Так называемые демократические страны СССР не любили и сильно боялись.
Руководители СССР, как истинные интернационалисты, ненавидели и тех и других за то, что они – империалисты, а в Германии видели наряду с носителем нацистской идеологии соперника и помеху в деле победы мировой социалистической революции.
К середине 1930-х гг. образовался, с позволения сказать, любовный треугольник, каждая вершина которого лелеяла надежду, что две оставшиеся сцепятся друг с другом к ее величайшей пользе.
Так называемые демократические страны мечтали, что СССР и Германия если не уничтожат, то сильно ослабят друг друга в междоусобной войне[28].
Взгляд советского руководства на грядущую войну был изложен журналом «Большевик» за 1938 г.: «Человечество идет к великим битвам, которые развяжут мировую революцию. <…> Конец этой второй войны ознаменуется окончательным разгромом старого, капиталистического мира…»[29] Действия Сталина в области внешней, военной и экономической политики были основаны на ожидании мировой войны, в которой капиталистические страны истощат друг друга, после чего наступит время Красной Армии возглавить борьбу мирового пролетариата против капитализма и колониализма.
Советское руководство приступило к активной подготовке к войне. Никто не сомневался, что исход грядущей войны будет предопределен не только количественным и качественным состоянием Вооруженных Сил, превосходством военно-научной мысли и талантом полководцев, но и уровнем развития экономики. «Ныне мы можем с полной определенностью сказать, что характер будущей войны определяется экономикой. <…>…Будущая война неизбежно повлечет за собой экономическую борьбу, которой тыл будет захвачен не меньше, если не больше, чем фронт… <…> В экономическом плане войны должно быть предусмотрено развитие народного хозяйства страны, должны быть продуманы и подготовлены финансовая и экономическая мобилизация и транспорт»[30] – таково было обоснование необходимости милитаризации советской экономики, изложенное еще в конце 1920-х гг.
Для кардинального изменения ситуации в экономике был взят курс на скорейшую индустриализацию страны, электрификацию, коллективизацию сельского хозяйства и проведение культурной революции[31].
Несмотря на весьма впечатляющие успехи в развитии тяжелой промышленности и производстве вооружений, к началу Второй мировой войны СССР еще заметно отставал от потенциальных соперников в экономическом развитии и военной мощи[32].
Во второй половине 1930-х гг. армия была переведена на кадровую систему устройства, что было окончательно закреплено в законе о всеобщей воинской обязанности 1939 г. Численность Красной Армии, составлявшая в том году 1,9 млн человек, к началу вторжения вермахта в Советский Союз выросла до 5 млн человек. Шел активный процесс создания новых частей и соединений. Так, количество одних только дивизий увеличилось с 98 до 303. Такой стремительный рост не мог не привести к организационным проблемам, дефициту командного состава и ухудшению его качества.
Началась активная подготовка к войне советского общества. С момента прихода к власти в Германии Национал-социалистической немецкой рабочей партии во главе с Гитлером и прекращения экономического сотрудничества СССР и Германии советская пропаганда относилась к нацистам крайне отрицательно, приписывая им реальные и мнимые пороки. Так, М. Горький еще в 1934 г. в статье «Пролетарский гуманизм» настойчиво продвигал мысль, что питательной почвой для фашистских идей ненависти и нетерпимости является развращенность капиталистического мира[33].
Досталось и «японским милитаристам», особенно после боев в районе озера Хасан[34] и реки Халхин-Гол[35]. Победы Красной Армии на Дальнем Востоке резко подогрели патриотизм. Советская пропаганда раздувала милитаристские настроения в стране. Героями кинофильмов, песен и других художественных произведений становились летчики, танкисты, артиллеристы и вообще военные, которые, когда их «в бой пошлет товарищ Сталин», будут бить врага на его территории.
Тем не менее советское руководство понимало, что страна к участию в глобальной войне еще не готова. Отсрочка вступления СССР в войну была жизненно необходима.
Когда разразился политический кризис 1939 г., всем стало очевидно, что война вот-вот начнется. Еще в марте 1939 г. в отчетном докладе И. В. Сталин заявил: «Речь идет теперь о новом переделе мира… путем военных действий… Таким образом, война, так незаметно подкравшаяся к народам, втянула в свою орбиту свыше пятисот миллионов населения, распространив сферу своего действия на громадную территорию – от Тяньцзина, Шанхая и Кантона через Абиссинию до Гибралтара»[36].
Упоминавшийся уже эфемерный треугольник идеологических предпочтений и неприязни превратился во вполне осязаемую военно-политическую конструкцию из двух блоков и Советского Союза. Каждая вершина этого треугольника теперь стремилась найти союзника в лице одной из оставшихся.
Начались тайные и явные британо-франко-советские, британо-германские и советско-германские переговоры. Все переговорщики с недоверием относились друг к другу. Великобритания и Франция опасались, что Советский Союз выступит против них на стороне Германии. Немцы не могли допустить объединения против них Великобритании и СССР. Советское руководство не исключало объединения двух противоборствующих блоков на базе антикоммунистической идеологии. Все эти подозрения имели вполне ощутимые основания, тем более что сведения о тайных переговорах регулярно «сливались» в прессу разведками противоборствующих сторон.
Изначально советское руководство ориентировалось на демократические страны, о чем свидетельствует вхождение СССР в Лигу Наций, из которой Германия вышла в 1934 г., явное ослабление деятельности Коминтерна, а также принятие передовой Конституции СССР 1936 г.
Однако переговоры Великобритании и Франции с СССР убедили советское руководство, что эти страны не готовы к равноправному партнерству. Лондон и Париж рассчитывали втянуть Советский Союз в противостояние с Германией на территории Польши. Однако Сталин не горел желанием защищать «свободный мир» от нацизма. Он так оценивал сложившуюся обстановку: «Вопрос мира или войны вступает в критическую для нас фазу. Если мы заключим договор о взаимопомощи с Францией и Англией, то Германия откажется от Польши и станет искать «модус вивенди» (временное соглашение. – Прим. П. К.) с западными державами. Война будет предотвращена, но в дальнейшем события могут принять опасный характер для СССР. Если мы примем предложение Германии о заключении с ней пакта о ненападении, она, конечно, нападет на Польшу, и вмешательство Франции и Англии в эту войну станет неизбежным. Западная Европа будет подвергнута серьезным волнениям и беспорядкам. В этих условиях у нас будет много шансов остаться в стороне от конфликта, и мы сможем надеяться на наше выгодное вступление в войну»[37].
Стремясь как можно дольше оттягивать начало Второй мировой войны, а то и вовсе предотвратить ее, правительства Великобритании и Франции подписали декларации о ненападении с Германией – 30 сентября и 6 декабря 1938 г. соответственно. Гитлер считал СССР слабой в военном отношении страной, не играющей заметной роли в Европе[38], и отказывался подписывать с Советским Союзом мирный договор, поскольку две страны не имели общих границ. Однако в 1939 г., как говорится, концепция изменилась.
Гитлер опасался войны на два фронта, а Сталин не торопился вступать в войну. Поэтому договор о ненападении, подписанный Германией и Советским Союзом в Москве 23 августа 1939 г., был к общей пользе двух стран. Обвинения Сталина в заигрывании с Гитлером абсолютно не связаны с событиями того времени. М. Дж. Карлей по этому поводу писал: «…Сотрудничество с Гитлером в 1930-е годы не было грехом, а даже если и было, то грешили тогда абсолютно все во главе с Великобританией, Францией и, конечно, Польшей. По мнению некоторых западных историков, западные страны мучились „либеральными угрызениями совести” из-за того, что им приходилось иметь дело с „антихристом”. Проблема в том, что для многих европейских консерваторов антихристом был Сталин, а вовсе не Гитлер. Вообще, отношения этих двоих со всем миром напоминают игру „любит – не любит”»[39].
Сталин так обосновал свое решение: «Война идет между двумя группами капиталистических стран (бедные и богатые в отношении колоний, сырья и т. д.) за передел мира, за господство над миром! Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга. Неплохо, если руками Германии будет расшатано положение богатейших капиталистических стран (в особенности Англии). Гитлер, сам этого не понимая и не желая, расстраивает, подрывает капиталистическую систему. <…> Мы можем маневрировать, подталкивать одну сторону против другой, чтобы лучше разодрались. Пакт о ненападении в некоторой степени помогает Германии. Следующий момент – подталкивать другую сторону»[40].
Естественным продолжением пакта стал секретный протокол[41], определивший «сферы интересов» сторон в Восточной Европе. К сфере интересов СССР были отнесены Финляндия, Эстония, Латвия, территория Польши к востоку от рек Нарев, Висла и Сан, а также румынская Бессарабия[42].
Однако ни Сталин, ни Гитлер не воспринимали подписанный договор как «мир, дружба навеки». У. Черчилль в своих мемуарах так описывал их отношение к пакту: «Невозможно сказать, кому он внушал большее отвращение – Гитлеру или Сталину. Оба сознавали, что это могло быть только временной мерой, продиктованной обстоятельствами. Антагонизм между двумя империями и системами был смертельным. Сталин, без сомнения, думал, что Гитлер будет менее опасным врагом для России после года войны против западных держав. Гитлер следовал своему методу «поодиночке». Тот факт, что такое соглашение оказалось возможным, знаменует всю глубину провала английской и французской дипломатии за несколько лет»[43].
1 сентября 1939 г. Гитлер напал на Польшу, и германские войска стали уверенно продвигаться в глубь страны. В этих условиях советское руководство, основываясь на секретном протоколе и не будучи уверенным в том, что Германия станет выполнять условия пакта Молотова – Риббентропа, 17 сентября 1939 г. ввело свои войска в восточные районы Польши под предлогом «защиты братских народов». 28 сентября в Москве был подписан Договор о дружбе и границе между СССР и Германией, установивший линию разграничения между немецкими и советскими войсками на территории теперь уже бывшей Польши[44]. Оккупация польских территорий была осуществлена практически без сопротивления.
Очередным очагом большой войны стала Советско-финская война 1939–1940 гг. Финляндия наряду с другой бывшей частью Российской империи – Польшей – была наиболее антисоветски настроенным государством. Нарком иностранных дел М. М. Литвинов в 1935 г. отмечал: «Ни в одной стране пресса не ведет так систематически враждебной нам кампании, как в Финляндии. Ни в одной соседней стране не ведется такая открытая пропаганда за нападение на СССР и отторжение его территории, как в Финляндии»[45].
Еще в сентябре 1937 г. американский военный атташе в СССР полковник Ф. Файмонвилл докладывал в Вашингтон: «Самой насущной военной проблемой Советского Союза является подготовка к отражению одновременного нападения Японии на Востоке и Германии совместно с Финляндией на Западе»[46].
Неудивительно, что на предложение советского руководства об обмене территориями с целью отодвинуть советско-финляндскую границу подальше от Ленинграда лидеры Финляндии ответили отказом, несмотря на множество вариантов такого обмена и уступок, предложенных советским руководством[47]. 28 ноября 1939 г. Советский Союз денонсировал советско-финляндский договор о ненападении 1932 года и отозвал из Финляндии своих дипломатических представителей. 30 ноября начались боевые действия[48]. «Зимняя война» завершилась 12 марта 1940 г., когда финляндская делегация в Москве была вынуждена подписать мирный договор на советских условиях.
В результате СССР приобрел около 40 тыс. кв. км, в то время как на переговорах просил около 3 тыс. кв. км в обмен на вдвое большую территорию[49], тем самым обеспечив, как сейчас говорят, свои жизненные интересы. 31 марта 1940 года была учреждена Карело-Финская Советская Социалистическая Республика (КФССР).
При этом война выявила существенные пробелы в боеготовности Красной Армии, прежде всего с точки зрения управления боевыми действиями. В итоге потери Красной Армии в несколько раз превосходили потери финнов[50]. Проблема, веками повторяющаяся, проявилась и здесь: если назначать генералами преданных, то трудно с них спрашивать как с полководцев. Сталину пришлось заменить своего верного приверженца К. Е. Ворошилова на профессионала С. К. Тимошенко на посту наркома обороны СССР. Несколько позднее начальником Генерального штаба был назначен Г. К. Жуков.
Другим итогом войны стало исключение Советского Союза из Лиги Наций (14 декабря 1939 г.). Великобритания и Франция были очень недовольны итогами «Зимней войны». Они поддерживали Финляндию, посылая ей вооружение, а Франция и вовсе планировала вступить в войну на ее стороне. Но не успела – война закончилась слишком быстро. Поражение Финляндии вызвало во Франции правительственный кризис, и кабинет Даладье был вынужден уйти в отставку[51].
Осенью 1939 года Эстония, Латвия и Литва под давлением Германии заключили с СССР договоры о взаимопомощи, также известные как договоры о базах, в соответствии с которыми на территории этих стран были размещены советские военные базы. 17 июня 1940 года СССР предъявил прибалтийским государствам ультиматум, требуя отставки их законных правительств и формирования вместо них «народных» правительств, роспуска парламентов, проведения внеочередных выборов и согласия на ввод дополнительного контингента советских войск. В сложившейся обстановке прибалтийские правительства были вынуждены принять ультиматум. При активной поддержке из Москвы в Эстонии, Латвии и Литве одновременно произошли государственные перевороты. К власти пришли правительства просоветской ориентации.
В середине июля 1940 года в Эстонии, Латвии и Литве в условиях значительного советского военного присутствия были проведены выборы в верховные органы власти. Коммунистически настроенные партии были единственными, кого допустили к выборам. 21 июля 1940 года вновь избранные парламенты, в составе которых оказалось просоветски настроенное большинство, провозгласили создание советских социалистических республик и направили Верховному Совету СССР (ВС СССР) прошения о вступлении в Советский Союз. 3 августа Литовская ССР, 5 августа Латвийская ССР, а 6 августа Эстонская ССР были приняты в состав СССР.
27 июня 1940 года советское правительство направило румынскому правительству две ультимативные ноты, требуя возврата Бессарабии и передачи СССР Северной Буковины в качестве «возмещения того громадного ущерба, который был нанесен Советскому Союзу и населению Бессарабии 22-летним господством Румынии в Бессарабии». В 1918 году, воспользовавшись Гражданской войной на территории бывшей Российской империи, Румыния ввела войска на территорию Бессарабии, а затем включила ее в свой состав. Буковина же никогда не входила в состав Российской империи, но была населена преимущественно украинцами. Румыния, не рассчитывая на поддержку со стороны других государств в случае войны с СССР, была вынуждена согласиться на удовлетворение этих требований. 28 июня Румыния вывела свои войска и администрацию из Бессарабии и Северной Буковины, после чего туда вошли советские части и назначенное руководство. 2 августа на части территории Бессарабии и части территории бывшей Молдавской АССР была провозглашена Молдавская ССР. Юг Бессарабии и Северная Буковина организационно были включены в состав Украинской ССР.
Итого в течение 1940 года плюс пять советских социалистических республик: Карело-Финская, Литовская, Латвийская, Эстонская и Молдавская ССР. Казалось, мечты сбываются.
Осенью 1940 г. по инициативе немецкой стороны началась подготовка визита Молотова в Германию. Встреча должна была стать судьбоносной для всего мира. Это понимали на Западе, Востоке и Юге. У немцев были глобальные предложения о разделе мира, поэтому нужно было выиграть время, решить финляндский вопрос (там вопреки пакту Германия ввела войска, не уведомив СССР) и по возможности «заглянуть в будущее»: чего хотят немцы, итальянцы и японцы?
12 ноября 1940 года Адольф Гитлер предложил Вячеславу Молотову, который находился с визитом в Берлине, присоединение СССР к странам «Оси» в качестве полноправного четвертого члена, заключив Пакт четырех держав[52], в надежде, что СССР примет участие в создании могущественного «континентального блока» и сочтет Индию и Иран зонами своих интересов и контроля в Азии, что в конечном счете приведет к капитуляции Англии и ее союзников. В ходе ряда встреч и доверительных бесед с Гитлером и Риббентропом Молотов заявил, что участие России в Тройственном пакте представляется ему, в принципе, абсолютно приемлемым при условии, что Россия является партнером, а не объектом. Но сначала следует урегулировать разногласия с Японией и другие проблемы[53].
В ходе советско-германских переговоров в ноябре 1940 г. выяснилось, что к сфере интересов СССР относятся Финляндия, устье Дуная и Болгария. СССР имел интересы также на Шпицбергене, в Швеции, в отношении Балтийских проливов, в Венгрии, Румынии, Турции (проливы Босфор и Дарданеллы), Иране[54]. Не правда ли, эти притязания очень хорошо рифмуются с панславистскими устремлениями министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова по поводу целей Российской империи в Первой мировой войне[55]. 25 ноября 1940 г. Молотов передал послу Германии меморандум с условиями присоединения Москвы к пакту четырех держав. Условия были отвергнуты[56].
Для Гитлера это было уже слишком: «Сталин умен и коварен. Он требует все больше. С точки зрения русской идеологии победа Германии недопустима. Решение: разгромить Россию как можно раньше. Через два года англичане могут иметь 40 дивизий. Это может побудить Россию к совместным действиям с Англией»[57]. Ответом на эти советские претензии стали подготовка и утверждение Гитлером 18 декабря директивы № 21 «План Барбаросса»[58], в котором предусматривалось напасть на Советский Союз 16 мая 1941 г. и молниеносно разгромить его.
Для советского руководства антагонизм устремлений двух набирающих мощь государств также был очевиден. С ноября 1940 г. Генштаб Красной Армии разрабатывал планы войны с Германией, исходя из доктрины «бить врага на его территории»[59]. Готовились исключительно наступательные операции. Войска целеустремленно отрабатывали наступательные планы, обучались ведению маневренных наступательных действий. Об оборонительных планах никто и не думал[60].
Видимо, Сталин слишком хорошо думал о Гитлере, полагая, что у того хватит ума не ввязываться в войну на два фронта – с Великобританией и СССР – и на Советский Союз он нападет только после того, как покончит с Англией. Но Великобритания и после поражения Франции не сдавалась. Все большую помощь ей оказывали США. Гитлер счел, что победить Британию он не в силах, пока у Черчилля есть надежда на помощь со стороны СССР и США: «Надежда Англии – Россия и Америка. Если рухнут надежды на Россию, Америка также отпадет от Англии, так как разгром России будет иметь следствием невероятное усиление Японии в Восточной Азии»[61].
Идея о молниеносной войне против Советского Союза во многом основывалась на ложном представлении о немощности Красной Армии. В этом Гитлера и его стратегов убеждали не только весьма неточные данные германской разведки, но и неудачные военные действия в начале «Зимней войны», когда Красная Армия долго не могла сломить сопротивление финнов, значительно уступавших ей и числом, и количеством вооружения.
Однако и советская разведка не смогла определить количественный и качественный состав сил вермахта, противостоящих Красной Армии, а также дату нападения Германии на СССР, во многом из-за масштабной операции спецслужб Германии по дезинформации советского руководства[62]. В этом вопросе Сталин верил Гитлеру больше, чем собственной разведке.
Глава 2
Истоки победы
§ 1. Мобилизация и Право катастроф
Участие, а тем более победа в мировой войне немыслимы без мобилизации всех ресурсов участвующего в ней государства. Имеется в виду не только резкое увеличение армии за счет дополнительного призыва, но и перевод экономики на военные рельсы с целью обеспечения армии вооружением, транспортными средствами и продовольствием, а также всемерное усиление пропаганды, нацеленной на подъем патриотических чувств и культивирование ненависти к врагу.
Понятно, что такой переход всегда приходится осуществлять в авральном порядке, так сказать, в режиме катастрофы. Заранее принять и подготовить соответствующие законодательные и нормативные акты невозможно. Поэтому управление мобилизацией осуществляется на основе директив, имеющих безусловный характер в том смысле, что они должны быть исполнены в любом случае, невзирая на обстоятельства.