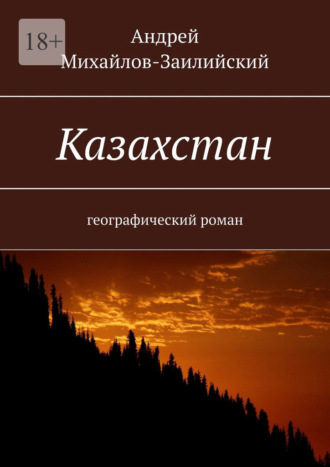
Полная версия
Казахстан. Географический роман

Разыскивать их я и отправился одним ясным августовским днём в самое пекло – к чинку Устюрта. И проехал вдоль вызверенного солнцем известнякового обрыва несколько сотен километров.

Но оказалось, что в поисках мне незачем было забираться в самые дебри. Настоящая мастерская «разрушителя камней» предстала взору в самом оживлённом месте Устюртского чинка, около знаменитой мангышлакской святыни – пещеры Бекет-ата.
Тут, у подножия обрыва, и обнаружились всюду разбросанные песчаниковые конкреции. Солидные каменные шары усыпали склоны, словно ядра первобытных пушек, которыми джины обстреливали тропу к святыне. А между «ядрами», если поискать, можно собрать добрую коллекцию окаменелых раковин («аммонитов») и прочего «руководящего» палеонтологического добра. Свидетельства того, что вначале творения всё же было море.
А на взгорке – настоящая каменная грибница. Из которой прорастают тут и там классические «эоловые грибы» разных размеров, форм и сортов. Тут тебе и красивые «шампиньоны», и сморщенные «сморчки», и крепенькие «дождевики» (те самые – шары Обручева!). У всех у них твёрдые, ожелезнённые шляпки, которые прикрывают от ветра и дождя мягкие, изгрызенные и истончённые природными агентами ножки. Но тут встречаются не только представители каменной флоры – вон, выползла из грибных кущей и застыла уродливая песчаниковая черепаха. Она никуда не спешит: для неё тысячелетие – туда, тысячелетие – сюда, значения не имеет.
Через некоторое время блуждания среди этих грибов ощущаешь, что объективная реальность (данная тебе в ощущениях) уходит куда-то на второй план – вокруг царит совсем другая реальность: с иными масштабами и нарочито медленным течением времени. Ощущение усиливает знойное марево, в котором все эти раскалённые солнцем каменные фигуры заметно дрожат и покачиваются.
…Через струящийся жар вдруг замечается странное движение по далёкому склону обрыва – словно гигантский удав, медленно сползает вниз. Это сотни паломников и поклонников начали своё вечернее движение по тропе. Они идут навстречу к своему Бекет-ате. Но это – уже другое измерение.
Соль земная. Её хватит на все грядущие поколения казахстанцев!
Известно всем: главное богатство Казахстана (после людей, разумеется!) – в его недрах. Основные поступления в наш бюджет даёт добыча углеводородов и металлов. Благодаря своему минеральной состоятельности (производному той самой пестроты геологической карты, про которую мы уже говорили выше) республика может без особого труда удивлять соседей масштабными проектами, платить хорошие зарплаты хорошим людям и плодить миллионеров. Но это – ныне. А раньше?
Два с половиной столетия назад, когда про казахстанскую нефть и уран ещё слыхом не слыхивали, полезным ископаемым №1, вывозимым из наших пределов, была соль. Продукт, надо сказать, архиважный в тогдашних условиях повсеместного отсутствия холодильной и консервной промышленности.

Соляным Клондайком Степи считалось в ту пору озеро Коряковское, лежавшее невдалеке от Павлодара. Промышленная добыча началась в нём ещё в середине XVIII века и велась в таких размерах, что это место считалось главной солонкой необъятной Сибири!
При этом само месторождение оставалось столь значительным, что даже спустя полтора столетия разработок никаких признаков его истощения не отмечалось. Так, в 1899 году в Коряковском добыли почти два с половиной миллиона пудов соли, причём почти половина этого количества была реализована тут же, на озере. Соль на месте продавалась по 5—6 копеек за пуд.
Но Коряковское месторождение было далеко не единственным в Казахстане. Прикаспий, Приаралье, Прибалхашье. По большому счёту весь Казахстан – это огромная соляная копь. И тому есть объяснение. Республика – край уникальных природных испарителей (и о них мы уже успели порассуждать!), принцип работы которых зиждется на погодных условиях, сочетающих периодическое увлажнение с полным пересыханием. Вода растворяет и сносит вымытую с поверхности соль в естественные углубления, а солнце вытапливает эту соль из воды.
Ещё один вариант соленакопления – естественные колебания степных водоёмов, при каждой депрессии обнажающие масштабные солёные лиманы, заполненные рапой заливы и т. д. Не случайно одним из самых характерных элементов наших пейзажей считаются необъятные солончаки. Постоянно балансирующие на грани топкого болота, в котором вязнут машины и животные, и безбрежной сухой равнины, с хрустящей коркой соли под ногами.
О том, что подобные аридные условия существовали в Казахстане достаточно долго, говорят и огромные запасы каменной соли на значительных глубинах. Достаточно вспомнить о знаменитых соляных куполах в Эмбинском районе.
Ещё одно историческое соляное месторождение лежит на самом краю Тюб-Караганского полуострова на Мангышлаке. Два застывших под коркой соли озера, Акколь и Кызылколь, раскинулись по обе стороны короткой дороги, связывающей два главных тамошних поселения – Форт-Шевченко и Баутино. Водители микроавтобусов и таксисты проносятся мимо них с лихим свистом – ничего интересного тут нет, а любой гаишник на этом голом пространстве будет виден за версту.
А между тем некогда вокруг этих озёр кипели нешуточные страсти. С появлением промышленного рыболовства на Каспии соль, столетиями лежавшая мёртвым грузом, неожиданно обрела конкретный смысл и реальную ценность. Едва ли не единственным способом сохранения выловленной рыбы (для последующей транспортировки к потребителю – расстояние до которого составляло тысячи вёрст!) в те времена было соление. Известно, что в 1899 году на нужды рыболовства на Эмбинском и Мангышлакском участках было израсходовано 241 900 пудов соли!

Самой лучшей солью считалась кызылкольская. Местные до сих пор уверены: именно из-за неё рыба приобретала столь изысканный вкус, что ею не брезговали и русские цари (к столу которых она якобы отправлялась прямиком с Тюб-Карагана!). Неслучайно, повсеместно бесплатная и малоценная, соль Мангышлака тут, у Форта-Александровского, отпускалась в одни руки с ограничениями. На семью рыбопромышленника – 150 пудов, адаевским биям – по 10, а всем прочим – по 2 пуда на год.
С развитием рыболовства связана история ещё одного места, где промышленная добыча соли началась в 1913 году (и продолжается до сих пор). Это – район уничтоженного земледельцами Средней Азии Аральского моря – соляные озёра Жаксыклыч, на базе которых работает известная всем казахстанцам компания «Аралтуз».
Во времена Советского Союза здешний комбинат «Аралсульфат» уступал по своей мощности только знаменитым «соляным приискам» Эльтона и Баскунчака (также расположенным в непосредственной близости от границ Казахстана). Вот что писалось о нём в середине 80-х годов прошлого века:
«Сейчас Жаксыклыч даёт около шестисот тысяч тонн поваренной соли в год. Её добывают специальными комбайнами, потом в вагонах, которые подают в забой по рельсам, положенным прямо по солёному пласту, вывозят на территорию комбината. Там она несколько лет выдерживается в специальных буртах, очищается, размалывается, фасуется и лишь потом направляется в торговую сеть. Комбинат „Аралсульфат“ – второе по мощности предприятие подобного типа в СССР. Солью Арал кормит полстраны.»

В том же Аральске посреди города раскинулось впечатляющее соляное озеро. Его хорошо видно из окон проезжающих мимо поездов.
Полукустарные промыслы по добыче соли не только возможны, но и распространены по всей республике. Мне неоднократно приходилось встречать их в разных местах Казахстана. Например – в Южном Прибалхашье, где также возможна добыча соли, если не для людей, так для нужд животноводства.
Соль, за горсть которой в некоторых странах когда-то платили равным весом золота, лежит у казахстанцев под ногами. Её столько, что все грядущие поколения казахстанцев всегда смогут есть её пудами!
Почвы Казахстана лучше всего видны… В Санкт-Петербурге!
В самом центре российской Северной Столицы, на Стрелке Васильевского острова бережно хранится земля из Казахстана. Для чего?
Ничего странного – тут, в одном из старинных пакгаузов, оставшихся ещё с тех пор, когда Стрелка была центром порта, находится ныне уникальный паноптикум. Музей почвоведения имени В. В. Докучаева. Этот невероятный музей если и имеет аналоги в мире, то они малоизвестны. В самом Казахстане ничего подобного не существует.
Василий Васильевич Докучаев относится к учёным-отцам. В данном случае в его лице мы имеем дело с отцом почвоведения. Именно Докучаев сумел вглядеться в землю под ногами и почувствовать под ногами «почву». Ту самую, которая даёт в конечном итоге все основания для жизни на планете. Материю тонкую, ранимую, подверженную изменениям, зависимую от условий и живущую по своим законам.
Вклад Докучаева в почвоведение был столь очевиден, что это вынуждены были признать даже в Европе (а Европе признавать заслуги русских учёных всегда было ох как непросто!). Одно из светил тамошней науки, мюнхенский профессор Эмиль Раманн ещё в начале прошлого века с пафосом воскликнул:
«Придётся учиться русскому языку тем почвоведам, которые хотели бы стоять на современном научном уровне… Только благодаря русским учёным почвоведение превратилось в обнимающую весь земной шар науку».
Воскликнул – и выучил.
Сам Василий Васильевич умер в расцвете творческих сил в 1903 году, многого не доделав, многого не дождавшись. Так и не увидел он и музея почв о котором мечтал. Обосновывая необходимость создания собрания почв, Докучаев писал:
«Несмотря на естественные богатства России, мы поразительно бедны, и главной причиной этой бедности является: а) незнание естественных сил России и б) неумение ими пользоваться; следовательно, нужны учреждения, которые изучали бы Россию, а одно из таких учреждений и есть почвенный музей».
Между тем после ухода отца-основателя дело его было кому подхватить – к тому моменту окрепли соратники и встали на ноги ученики. Памятником Докучаеву и стал созданный уже в 1904 году Музей почвоведения. Музей, не превратившийся, однако, в мёртвое собрание раритетов. Система исследования почв в аграрной стране поднялась на высокий уровень, и музей оказался органичной частью системы российского почвоведения – выставкой достижений и собранием образцов для дальнейших исследований одновременно.
При ученике Докучаева К. Д. Глинке (первом академике-почвоведе и директоре Почвенного института) были организованы в 1908—1914 годах «составившие эпоху в истории почвоведения крупнейшие почвенные экспедиции по исследованию Азиатской России». В сферу интересов которых, конечно же, попали и те обширные территории, которые составляют ныне территорию независимого Казахстана. А ещё один известный ученик Докучаева (впоследствии также академик) – Ф. Ю. Левинсон-Лессинг «был первым почвоведом, побывавшим в казахской степи и описавшим её почвы». В знаменитых экспедициях в Казахстан принимал участие и ещё один академик и директор Почвенного института – Леонид Иванович Прасолов.

Самым важным экспонатом Музея почвоведения являются, как нетрудно догадаться, сами почвы. Здесь собраны все почвы бывшей Российской Империи и Советского Союза. И много образцов со всего прочего мира. И это не просто кучи земли, а специально вырезанные почвенные монолиты длиной более метра с «непотревоженной структурой», доставленные в Санкт-Петербург экспедициями. Таких монолитов в нынешней экспозиции 325!
И с десяток из этих показательных эталонов были доставлены на берега Невы из степей Казахстана. Среди них почвы: светло-каштановые, лугово-каштановые, солончаковые, солонцовые такырные, лугово-степная солодь, серо-бурые пустынные, слитые солонцеватые и т. д.
Почвенные экспедиции не ограничивались сбором экспонатов для музея. Благодаря тем предприятиям начала прошлого века появилось в конечном итоге и казахстанское почвоведение. Институт почвоведения возник у нас ещё при филиале союзной академии. А во время Отечественной войны Казахстан получил первую почвенную карту, отразившую всю территорию республики.
…Интересно, что и у нас хранится земля из Ленинграда. В Алма-Ате, в Парке Героев-Панфиловцев – в специальной капсуле, под соответствующей стелой, среди других подобных, связующих нас с городами-героями Великой Отечественной войны. Но это уже земля совсем иного свойства и значения. Святая!
До потопа. Индрик-зверь: казахстанский соперник тираннозавра
Динозавры, стараниями масс-медиа, стали символом всей палеонтологии. Затмив собой всю прочую ископаемую живность. Будто всё остальное вообще недостойно благородной публики. Так ли?
Динозавры-монстры вымерли не оставив прямого потомства. Но жизнь на том не закончилась. На Земле продолжали появляться колоссы, которые не затерялись бы рядом с ящерами мезозойской эры.
Среди них – индрикотерий, обитавший 20—30 миллионов лет назад на территории современного Казахстана. Самое крупное млекопитающее из всех, когда-либо бродивших по нашей планете.
Вообще говоря, величайшее в истории теплокровное животное, чьи размеры сопоставимы с габаритами крупнейших динозавров-зауроподов, – кит. Он, несмотря на все наши старания, всё ещё обитает в пучинах Мирового океана. Любопытно, что далёкие предки кита, родственники бегемотов, также проживали на поверхности Земли. Но никакими особенными размерами не выделялись. 50 миллионов лет назад они решили навсегда покинуть сушу и стать морскими обитателями – от греха подальше. И уж там разрослись на славу.
Поэтому пальма первенства среди сухопутных млекопитающих – у индрикотерия. Если сравнить габариты нашего гиганта с таким знаковым вымершим монстром, как главный персонаж американского кинематографа тираннозавр-рекс, то победа останется за нами. Высотой индрикотерий превзойдёт тираннозавра почти на метр, а весом – в два-три раза. Подсчитано, что под брюхом стоящего индрикотерия смогла бы пройти парадным маршем воинская колонна по шесть человек в ряд.

И хотя сравнение некорректное, в стиле какой-нибудь развлекательно-познавательной передачи канала National Geographic (хищные тираннозавры вымерли за 30 миллионов лет до появления травоядных индрикотериев, а вооружённые люди начали маршировать колоннами через 20 миллионов после исчезновения последних), мы ведь говорим не о возможностях, а только о размерах. И, думается мне, что как только останки индрикотерия будут обнаружены на территории США (пока что они найдены лишь в Казахстане и его недалёких азиатских окрестностях), то его популярность станет сопоставимой с самыми раскрученными динозаврами. (Как вариант сценария, но более гипотетический, можно рассмотреть развитие в Казахстане палеонтологии и кинематографа на уровне, сопоставимом с американским.)
Согласно правилам систематики, наш сегодняшний герой относится к носорогам. Но на тех носорогих чудовищ, которые ныне прозябают в резерватах и зоопарках Земли, он совсем не похож. По стати – это скорее безгорбый верблюд или окарикатуренный тапир с удлинёнными конечностями и растянутой шеей. По природе – типичный жираф, алчно вытянувшийся в своих травоядных устремлениях к сочным макушкам самых высоких деревьев, которые росли тогда в этих ныне степных регионах.
Своё имя этот живший на Земле в промежутке от 30 до 20 миллионов лет назад травоядный монстр получил от первых русских исследователей, описавших его в начале XX века. Среди них был и Алексей Борисяк — создатель знаменитого палеонтологического института АН СССР.
А назвали гиганта в честь мифического Индрика-зверя, героя таинственной «Голубиной книги».
«Когда звирь в горы поворотится,
Тогда мать-земля под ним всколыбнется,
Тогда все звирья ему поклонятся,
Потому Белояндрих всем звирям мати».
Что до первых находок окаменелых костей этого колосса, достигавшего высоты трёхэтажного дома, то они в начале прошлого века были привезены в Петербург с территории Казахстана. В 1912 году останки были обнаружены горным инженером Матвеевым на реке Кара-Тургай. А годом позже студент Гайлит привёз кости с берега озера Челкар-Тениз.
Вообще-то студента Гайлита Геологический комитет отправлял совсем в другое место казахской степи и совсем за другими ископаемыми останками. Но встреченные им по дороге казахи за чашкой чая доверительно поведали столичному гостю про озеро-солончак, где когда-то случилась «битва великанов», кости которых до сих пор «валяются по берегам». Смекнув, что к чему, студент своевольно изменил план командировки, свернул на Челкар-Тениз и действительно нашёл там множество огромных «костей мамонта».

Однако в Петербурге, куда Гайлит прибыл со своими находками, его ожидал отнюдь не триумф. К тому времени там не знали куда девать свозимую со всех концов Империи мамонтову кость. Так что студенту задали взбучку, а ящики даже не стали распаковывать.
Так они и простояли в коридорах, пока на них не упал глаз специалиста, того самого Алексея Борисяка. Алексей Алексеевич тут же сообразил, что никакой это не мамонт, а позже, соотнеся находку студента с останками уже известного по Пакистану белуджитерия – другого гигантского безрогого носорога, понял, с кем имеет дело.
Дальнейшие раскопки в Челкарской котловине Тургайской впадины привели не только к новым находкам индрикотерия, но и к выявлению целого ископаемого фаунистического комплекса, который назвали «индрикотериевым» и отнесли по времени жизни к олигоцену. Позднее гигантского носорога нашли в других частях Казахстана, например, в районе Арала. Раскопки не прекращались даже в годы войны, когда палеонтологический институт (ПИН) оказался в эвакуации в Алма-Ате и Фрунзе.
Не случайно, что один из самых полно собранных скелетов индрикотерия украшает ныне Музей природы, который находится в восточном флигеле здания Академии наук в Алма-Ате. Представленный тут экземпляр не из самых крупных, однако подобными экспонатами могут похвалиться очень немногие палеонтологические коллекции самых прославленных собраний мира. По сравнению с многочисленными скелетами тираннозавров, скелеты индрикотериев можно пересчитать по пальцам.
Тут же, кстати, установлен и скелет тираннозавра, вернее его азиатского родича тарбозавра. Но это лишь копия знаменитой находки из Нэмэгету (Гоби), дар московских коллег.
Такие же монстры, впрочем, населяли в меловой период и просторы современного Казахстана. Но вот – незадача, обильный костеносный материал, сохранившийся в Казахстане от динозавров, не имеет практической ценности для музеев. Потому что весь он перемолот, переломан, перепутан и полностью «переотложен» в результате геологических казусов в последующем.
«Гусиный перелёт». Первобытное кладбище под Павлодаром и триумф Юрия Орлова
Есть правило установленное русским естествоиспытателем Карлом Максимовичем Бэром для всех рек, текущих в Ледовитый океан. Согласно «закону Бэра», водные потоки, протекающие вдоль меридиана к северу, из-за вращения Земли постоянно отклоняются к востоку и подмывают свой правый берег. Неудивительно, что именно на этих обрывистых правых берегах, самой природой защищённых от разрушительных весенних паводков, издревле закладывались и строились наши города. Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар – все они поставлены именно так. Как и все их крупные сибирские сверстники: Омск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск.
Ясно, что и всё внимание палеонтологов, специалистов по первобытной живности, в Сибири всегда приковывалось именно к правым берегам. Дармовая сила воды ведь не только вращает турбины и даёт электрическую энергию, но и помогает науке – позволяет не тратиться на дорогостоящие разведки и раскопки. После каждого паводка из подмытых правобережий открытия буквально сыплются на голову. Успевай уворачиваться!
Вот так и случилось с прославленным советским палеонтологом, будущим академиком Ю. А. Орловым, который летом 1928 года, в бытность свою зелёным новичком в науке, прогуливаясь вдоль реки в Павлодаре, взглянул на правый откос Иртыша и сделал открытие! Он обнаружил не просто новый вид ископаемого животного, а целый фаунистический комплекс возрастом 20 миллионов лет.
Молодая советская наука по достоинству оценила открытие молодого советского учёного и дала денег на проведение широкомасштабных раскопок. «Гусиный перелёт», как издревле называли это урочище местные, учёные потом копали много лет. Вначале силами Академии наук СССР, а позже Академии наук Казахстана. Можно уверенно сказать, что столь масштабных палеонтологических раскопок в Республике больше никогда не было. (И, судя по нынешнему состоянию отечественной палеонтологии, долго ещё не будет.)

Но затраты стоили того! Количество животных этого гигантского кладбища, извлечённых из Иртышского берега у «Гусиного перелёта», колоссально. Достаточно сказать, что лишь за первые два года раскопок было найдено и извлечено более 15 000 фрагментов одних только гиппарионов – маленьких трёхпалых лошадок, по имени которых был назван весь неогеновый интернационал, который пасся на просторах Глубинной Азии 20 миллионов лет назад. Скелеты лошадок-малюток украшают многие собрания бывшего Союза. И знаменитый Палеонтологический музей в Москве, и областной музей в Павлодаре, и Музей природы в Алма-Ате.
Однако самыми колоритными представителями этого первобытного сообщества были травоядные гиганты – носороги, жирафы, верблюды, хоботные. Они имели такое же сходство со своими ныне живущими потомками, как мы с каким-нибудь обезьяновидным пращуром, обитавшим пару миллионов лет назад в Центральной Африке.
Царём же тогдашней природы считается саблезубый тигр – махайрод, который любил махать перед испуганными жертвами своими 15-сантиметровыми клыками. Но большей частью персонажей, захороненных природой на этом древнем кладбище, была вполне безобидная палеонтологическая малышня вроде всяких зайчиков, мышек, тушканчиков, птичек, лягушек.
Для охраны уникальной ископаемой фауны всё «кладбище» взято под охрану государства. Ещё в 1971 году ему был предоставлен статус «памятника природы». А ныне «Гусиный перелёт» превращён в природный парк. Нужно отметить, что за годы исследования «удревнилась» (до 25 миллионов лет) сама эпоха изначального «захоронения» первобытной фауны под современным Павлодаром.
Когда в Казахстане появились первые лошади?
Эволюция лошади, животного, которое в деле развития человеческой цивилизации входит в первую пятёрку четвероногих помощников человека, уже не первое столетие волнует умы тех, кто умами пользуется. Множество палеонтологических фактов свидетельствует, что большая часть доисторической биографии конского племени связана с Центральной Азией и, в том числе, казахскими степями.
О гиппарионе, маленькой лошадке, обитавшей на мягких увлажнённых почвах, я уже говорил выше. Гиппарион не был классическим скакуном и не цокал копытами по такырам, об этом свидетельствует отсутствие у него этих самых копыт как таковых. Вместо этого у него была изящная трёхпалая лапка с тремя копытцами, благодаря ей он не проваливался в вязкую грязь лугов, на которых кормился.



