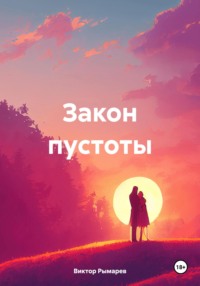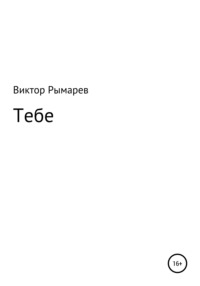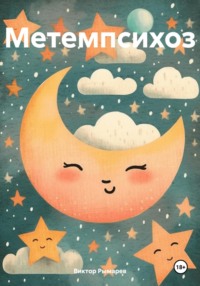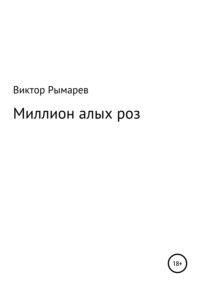Полная версия
ХХ век. Как это было
В Петрограде творились страшные дела, а в Ставке царила безмятежная тишина, спокойствие более обычного. Вся информация, которая поступала Государю, шла через руки Алексеева.
Между тем, в тот же день утром обстановка в корне изменилась, так как на сторону восставших перешли запасные батальоны Литовского, Волынского, Преображенского и сапёрного гвардейских полков. Именно запасные батальоны, так как настоящие гвардейские полки находились тогда на Юго-западном фронте. Эти батальоны не отличались ни дисциплиной, ни настроением от прочих имперских запасных частей.
Командный состав многих частей растерялся, не решил сразу основной линии своего поведения, и эта двойственность послужила отчасти причиной устранения его влияния и власти. Многие офицеры сами приказывали солдатам переходить на сторону рабочих.
Войска вышли на улицу без офицеров, слились с толпой и восприняли её психологию.
Вооружённая толпа, возбуждённая до последней степени, опьянённая свободой, подогреваемая уличными ораторами, текла по улицам, сметая баррикады, присоединяя к себе всё новые толпы ещё колебавшихся.
Беспощадно избивались полицейские отряды. Встречавшихся офицеров обезоруживали, иногда убивали. Вооружённый народ овладел арсеналом, Петропавловской крепостью, Крестами (тюрьма)…
Единственным общим выражением настроения был клич:
– Да здравствует свобода!
Государь – одинокий, без семьи, без близких, не имея возле себя ни одного человека, которому мог или хотел довериться, переживал свою тяжёлую драму в старом губернаторском доме в Могилёве.
26 февраля императрица телеграфировала государю: "Я очень встревожена положением в городе"… В 9.20 утра Николай телеграфировал царице, что выедет в Петроград утром 28 февраля, а в 22.00 повелел командующему Петроградским военным округом генералу Хабалову прекратить волнения в столице. В 21.40 пришла телеграмма от Родзянко: "Положение серьёзное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. Растёт общее недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца". Эта телеграмма послана была Родзянко и всем главнокомандующим, с просьбой поддержать его.
На эту телеграмму в ночь на 27 февраля царь ответил распоряжением о роспуске Думы. Царь подписал указ о приостановке на месяц работы Государственной думы и Государственного совета. Деятельность думских говорунов объявлялась незаконной. По замыслу государя, власть сосредоточивается в его руках и в руках его правительства с опорой на верную царю армию.
27-го утром в заседании Думы решено было не разъезжаться из Петрограда.
27-го утром председатель Думы обратился к государю с новой телеграммой: "Положение ухудшается, надо принять немедленно меры, ибо завтра будет уже поздно. Настал последний час, когда решается судьба родины и династии". Одновременно, генерал Алексеев просил императора пересмотреть свой отказ и дать согласие на создание «ответственного правительства» во главе с Родзянко или князем Львовым.
Царь снова ответил отказом и днём велел главнокомандующим Западным и Северным фронтами срочно отправить в Петроград по два кавалерийских и по два пехотных полка и по пулемётной команде. Во главе этих частей он поставил генерала Н. И. Иванова, который в ночь на 28 февраля должен был отправиться из Могилёва в столицу с Георгиевским батальоном.
Первым днём революции принято считать события 27 февраля. Они начались с выстрела унтер-офицера запасного батальона лейб-гвардии Волынского полка Тимофея Кирпичникова, убившего начальника учебной команды батальона капитана Лашкевича. За этот «подвиг» Кирпичников был награждён Георгиевским крестом самим генералом Корниловым, командующим Петроградским военным округом.
Днём 27 февраля в здании Государственной Думы в Таврическом дворце на основе масонской Рабочей группы Военно-промышленного комитета создаётся Временный исполнительный комитет Петроградского Совета рабочих депутатов. Председатель – Чхеидзе, Керенский и Скобелев – заместители. Секретарь – Соколов.
Петросовет сумел установить реальный контроль над восставшими солдатскими массами.
Приказы государя не выполняются. Генерал Иванов не доводит свой корпус до Петрограда. Солдаты петроградских полков отказываются подчиняться генералу Хабалову
В ночь на 28 февраля в том же Таврическом дворце создаётся «Временный Комитет Государственной Думы», который в таких осторожных выражениях объявил о существе своего назначения:
"Временный комитет членов Государственной Думы при тяжёлых условиях внутренней разрухи, вызванной мерами старого правительства, нашёл себя вынужденным взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка… Комитет выражает уверенность, что население и армия помогут ему в трудной задаче создания нового правительства, соответствующего желаниям населения и могущего пользоваться его доверием ".
Временный Комитет назначил комиссаров во все министерства, отстранив от должности законных министров.
Фактически уже 28 февраля произошёл государственный переворот, в котором участвовали руководители либерально-масонского подполья, Государственной Думы и высшего военного командования.
К Таврическому дворцу стали подходить войсковые части с командирами и офицерами, с музыкой и знамёнами, и по всем правилам старого ритуала приветствовали новую власть в лице председателя Государственной Думы Родзянко. Даже охрана царя, собственный его величества конвой, оставшийся в Петрограде, заявил Государственной думе о своём отступничестве от государя.
Большое собрание офицеров, находившихся в Петрограде, 1 марта вынесло постановление: "идя рука об руку с народом… признавая, что для победоносного окончания войны необходима скорейшая организация порядка и дружная работа в тылу, единогласно постановили признать власть исполнительного комитета Государственной Думы впредь до созыва Учредительного Собрания".
Жертвы первых дней революции в столице были невелики: регистрация Всероссийского союза городов определила их для Петрограда общим числом убитых и раненых в 1.443, в том числе воинских чинов 869 (офицеров 60). Конечно, много раненых избегло учета.
28 февраля в пять часов утра императорский поезд вышел из Могилёва на восток, в Царское село. Проехав Вязьму, Ржев и Торжок, поезд в 21.00 прибыл в Лихославль и повернул на Бологое, чтобы через Малую Вишеру, Любань и Тосно утром 1 марта прибыть в Царское Село. В поезде с государём ехало много лиц свиты. Когда государь вышел из вагона, эти лица посыпались на перрон и стали быстро разбегаться в разные стороны, озираясь по сторонам. В числе удиравших был и генерал-майор Нарышкин, близкий друг государя с детских лет.
В Малой Вишере в 3 часа утра Николаю сообщили, что в Петрограде есть «какое-то Временное правительство» и что Любань и Тосно заняты восставшими войсками. Царь приказал возвращаться назад в Бологое, а оттуда через станцию Дно следовать в Псков, где находилась ставка главнокомандующего Северным фронтом генерала Рузского.
1 марта на станции Дно из царского поезда отправляется телеграмма председателю Государственной Думы Родзянко, в которой царь приглашает его прибыть в Псков в штаб Северного фронта совместно с председателем Совета Министров князем Голицыным, государственным секретарём Крыжановским и тем наиболее желательным кандидатом для составления правительства, которому, по мнению Родзянко, «может верить вся страна и будет доверять население».
Но вся переписка царя полностью контролируется. Заговорщики боятся выпустить Родзянко из своих рук, так как не очень доверяют ему.
В шесть часов вечера 1 марта в царский поезд летит телеграмма, подписанная Бубликовым, в которой сообщается, что «Родзянко задержан обстоятельствами, выехать не может», Царю не дают возможности связаться с семьёй в Царском Селе. Все письма и телеграммы, которые шлёт ему жена, перехватываются. Царь оказался пленником, отрезанным от Ставки и от семьи. К нему никого не подпускают.
В 19.05 императорский поезд подошёл к платформе станции Псков. На станции собралась огромная толпа народа. Когда царь появился в окне вагона, все сняли шапки, многие встали на колени и крестились. Навстречу государю вышел «согбенный, седой, старый, в резиновых калошах» генерал Рузский в форме Генерального штаба. У него было «бледное, болезненное лицо, глаза из-под очков смотрели неприветливо».
Император пригласил генерала к себе в вагон. После рапорта и краткого обмена мнениями Рузский испросил у царя аудиенцию для важного доклада по поручению генерала Алексеева.
В 22.00 состоялась аудиенция генерала Рузского. Едва ступив на подножку вагона, генерал заявил столпившимся на платформе придворным: «Господа, придётся сдаться на милость победителя».
– Ваше величество, – заявил генерал императору, – я буду говорить о вопросах не войны, а государственного управления. Прошу вас как можно быстрее дать согласие на создание «ответственного правительства».
– Я не могу согласиться на создание такого правительства, – спокойно, хладнокровно и с чувством глубокого убеждения ответил Государь. – Поймите меня правильно: лично для себя в своих интересах я ничего не желаю, ни за что не держусь, но считаю себя не вправе передать всё дело управления Россией в руки людей, которые сегодня, будучи у власти, могут нанести величайший вред родине, а завтра умоют руки, подав с кабинетом в отставку. Вы можете гарантировать, что общественные деятели, которые, несомненно, составят первый же кабинет, не окажутся людьми совершенно неопытными в деле управления и, получив бремя власти, сумеют справиться со своей задачей?
– Ваше величество, поверьте мне: у вас нет иного выхода. Революция всюду побеждает, экспедиция Иванова обречена на провал, потому что власть прежнего совета министров фактически уже перешла в руки Временного Комитета Государственной Думы. Железные дороги контролируются Комиссаром путей сообщения Бубликовым, который взял под личный контроль железные дороги и телеграфную связь. И, прежде всего, между Петроградом и Ставкой. Вот телеграмма от генерала Алексеева из Могилёвской ставки. – Рузский потряс бумажкой. – Беспорядки в Кронштадте вышли из-под контроля. В Москве войска переходят на сторону восставших. Балтийский флот признал Временный комитет.
Ещё более часа генерал Рузский возражал, спорил, доказывал и, в конце концов, вырвал у царя согласие на сформирование ответственного правительства во главе с Родзянко.
Выйдя на четверть часа, чтобы телеграфировать об этом председателю Госдумы, Рузский снова вернулся в царский вагон: ему следовало добиться отмены приказа, предписывающего генералу Иванову идти с войсками на Петроград. 2 марта в 0.20 он вышел от царя с телеграммой для Иванова: «Прошу до моего приезда и доклада никаких мер не принимать».
2 марта в 10.15 генерал Рузский явился в царский вагон в старых калошах, но с новым требованием: отречься от престола в пользу сына при регентстве великого князя Михаила Александровича. Генерал доложил об аресте царских министров и назначении Временного правительства. Кроме того, доблестный генерал сообщил императору о том, что мятежники захватили в свои руки дворец в Царском Селе и царскую семью, что не соответствовало действительности.
Император выслушал совершенно спокойно, не меняя выражения своего как будто застывшего лица. В этот момент Рузскому принесли телеграмму от главнокомандующего Западным фронтом генерала А. Е. Эверта, сообщавшего, что, по его мнению, продолжать боевые действия можно только при условии, если Николай отречётся от престола в пользу сына.
– Мне надо подумать, – сказал император.
– Только думайте, пожалуйста, быстрее, – заявил генерал.
– Вы свободны.
Рузский вышел из вагона.
В 14.00 царь вновь вызвал к себе генерала. Рузский явился с двумя помощниками: генералами Даниловым и Савичем. Рузский сообщил новые известия, полученные из ставки. В Петрограде явился в Думу с предложениями своих услуг собственный его величества конвой; вверил себя в распоряжение Думы двоюродный брат царя великий князь Кирилл Владимирович; на сторону Временного правительства перешёл главнокомандующий Московского военного округа генерал Мрозовский. В качестве убеждения фигурировали и результаты опроса, проведённого 1 марта генералом Алексеевым, который разослал командующим фронтам и флотами циркулярную телеграмму о желательности отречения Николая от престола: великий князь Николай Николаевич (Кавказский фронт) – за; генерал Брусилов (Юго-Западный фронт) – за; генерал Эверт (Западный фронт) – за; генерал Сахаров (Румынский фронт) – за; генерал Рузский (Северный фронт) – за; адмирал Непенин (командующий Балтийским флотом) – за; адмирал Колчак (командующий Черноморским фронтом) – «принял безоговорочно». Сам Алексеев – да.
– Я решился, – сказал Николай. – Я отказываюсь от престола.
Он перекрестился. Перекрестились и генералы.
– Благодарю вас за доблестную и верную службу, – сказал Николай Рузскому и поцеловал его. После чего написал две телеграммы об отречении: одну – Родзянко, другую – Алексееву. Было 3 часа дня 2 марта 1917 года.
Не успели разослать телеграммы, как пришло сообщение, что в Псков едут делегаты Комитета Государственной Думы, Гучков и Шульгин… Этого обстоятельства, доложенного Рузским государю, было достаточно, чтобы он вновь отложил решение и задержал опубликование акта.
Вечером прибыли делегаты.
Среди глубокого молчания присутствующих, Гучков нарисовал картину той бездны, к которой подошла страна, и указал на единственный выход – отречение.
– Я вчера и сегодня целый день обдумывал и принял решение отречься от престола, – ответил государь. – До 3 часов дня я готов был пойти на отречение в пользу моего сына, но затем я понял, что расстаться со своим сыном я неспособен. Вы это, надеюсь, поймёте? Поэтому я решил отречься в пользу моего брата.
Около 12 часов ночи на 3 марта, после некоторых поправок, государь вручил делегатам и Рузскому два экземпляра манифеста об отречении.
"В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, всё будущее нашего дорогого отечества требуют доведения войны, во что бы то ни стало до победного конца.
Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками может окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России сочли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и в согласии с Государственной Думой признали мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расставаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол государства Российского.
Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои ими будут установлены, принеся в том ненарушимую присягу во имя горячо любимой родины.
Призываю всех верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним – повиновением Царю в тяжёлую минуту всенародных испытаний, и помочь ему вместе с представителями народа вывести государство Российское на путь победы, благоденствия и славы.
Да поможет Господь Бог России. Николай ".
Перед своим отречением, император подписал два указа – о назначении председателем Совета министров кн. Львова, и Верховным главнокомандующим – великого князя Николая Николаевича.
Поздно ночью поезд уносил отрёкшегося императора в Могилёв. В Могилёве, при свидании с Алексеевым, он, глядя на него усталыми, ласковыми глазами, как-то нерешительно сказал:
– Я передумал. Прошу вас послать эту телеграмму в Петроград.
На листке бумаги отчётливым почерком государь писал собственноручно о своём согласии на вступление на престол сына своего Алексея…
Алексеев унёс телеграмму и… не послал.
2 марта Временный комитет членов Государственной Думы объявил о создании Временного правительства, которое, после длительных переговоров с параллельным органом "демократической власти" – Советом рабочих депутатов, издало декларацию:
1) "Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и религиозным, в том числе террористическим покушениям, военным восстаниям, аграрным преступлениям и т. д.
2) Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, с распространением политических свобод на военнослужащих в пределах, допускаемых военно-техническими условиями.
3) Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений.
4) Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего равного, прямого и тайного голосования Учредительного Собрания, которое установит форму правления и конституцию страны.
5) Замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчинённым органам местного самоуправления.
6) Выборы в органы местного самоуправления на основании всеобщего, равного, прямого и тайного голосования.
7) Не разоружение и не вывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении.
8) При сохранении воинской дисциплины в строю и при несении военной службы – устранение для солдат всех ограничений в пользовании общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам.
Временное правительство считает своим долгом присовокупить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для какого-либо промедления по осуществлению вышеизложенных реформ и мероприятий".
Той же демократической властью накануне был издан приказ № 1.
ПРИКАЗ № 1.
1 марта 1917 года.
По гарнизону Петроградского округа, всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота – для немедленного и точного исполнения, а рабочим Петрограда – для сведения.
Совет Рабочих и Солдатских Депутатов постановил:
1) Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и отдельных службах разного рода военных управлений и на судах военного флота – немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей.
2) Во всех воинских частях, которые ещё не выбрали своих представителей в Совет Рабочих Депутатов, избрать по одному представителю от рот, – которым и явиться с письменными удостоверениями в здание Государственной Думы к 10 часам утра, 2-го сего марта.
3) Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету Рабочих и Солдатских Депутатов и своим комитетам.
4) Приказы военной комиссии Государственной Думы следует исполнять только в тех случаях, когда они не противоречат приказам и постановлениям Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.
5) Всякого рода оружие, как то: винтовки, пулемёты, бронированные автомобили и прочее, – должно находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в каком случае не выдаваться офицерам, даже по их требованиям.
6) В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя, в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чём не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане.
В частности, вставание во фронт и обязательное отдавание чести вне службы отменяется.
7) Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосходительство, благородие и т. п., и заменяется обращением: господин генерал, господин полковник и т. д.
Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов, и в частности, обращение к ним на "ты", воспрещается, и о всяком нарушении сего, равно как и о всех недоразумениях между офицерами и солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов.
Петроградский Совет
Рабочих и Солдатских Депутатов.
Иосиф Гольденберг, член Совета рабочих и солдатских депутатов и редактор "Новой Жизни" говорил французскому писателю Сlаudе Аnet:
"Приказ № 1 – не ошибка, а необходимость. Его редактировал не Соколов; он является единодушным выражением воли Совета. В день, когда мы "сделали революцию", мы поняли, что если не развалить старую армию, она раздавит революцию. Мы должны были выбирать между армией и революцией. Мы не колебались: мы приняли решение в пользу последней и употребили – я смело утверждаю это – надлежащее средство".
2 марта Родзянко телеграфировал непосредственно Корнилову: "Временный комитет Государственной Думы, образовавшийся для восстановления порядка в столице, принужден был взять в свои руки власть, ввиду того, что под давлением войск и народа старая власть никаких мер для успокоения населения не предприняла и совершенно устранена. В настоящее время власть будет передана временным комитетом Государственной Думы – Временному правительству, образованному под председательством князя Львова. Войска подчинились новому правительству, не исключая состоящих в войске, а также в Петрограде лиц императорской фамилии, и все слои населения признают только новую власть. Необходимо для установления полного порядка, для спасения столицы от анархии назначение на должность главнокомандующего петроградским военным округом доблестного боевого генерала, имя которого было бы популярно и авторитетно в глазах населения. Комитет Государственной Думы признает таким лицом ваше превосходительство, как известного всей России героя. Временный комитет просит вас, во имя спасения родины, не отказать принять на себя должность главнокомандующего в Петрограде, и прибыть незамедлительно в Петроград. Ни минуты не сомневаемся, что вы не откажетесь вступить в эту должность и тем оказать неоценимую услугу родине. Родзянко".
3 марта, около полудня, у великого князя Михаила Александровича,
который с 27 февраля не имел связи со Ставкой и государём, собрались члены правительства и Временного комитета. В сущности, вопрос был предрешён и тем настроением, которое царило в Совете рабочих депутатов по получении известия о манифесте, и вынесенной исполнительным комитетом Совета резолюцией протеста, доведённой до сведения правительства, и непримиримой позицией Керенского, и общим соотношением сил: кроме Милюкова и Гучкова – все прочие лица, "отнюдь не имея никакого намерения оказывать на великого князя какое-либо давление", в страстных тонах советовали ему отречься. Милюков предостерегал, что "сильная власть… нуждается в опоре привычного для масс символа", что "Временное правительство – одно – может потонуть в океане народных волнений и до Учредительного собрания не доживёт"…
Переговорив еще раз с председателем Государственной Думы Родзянко, великий князь заявил о своём окончательном решении отречься.
В тот же день обнародовано "заявление" великого князя Михаила Александровича:
"Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне императорский всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений народа.
Одушевлённый со всем народом мыслью, что выше всего благо родины нашей, принял я твёрдое решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому и надлежит всенародным голосованием через представителей своих в Учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства Российского.
Призывая благословение Божие, прошу всех граждан державы российской подчиниться Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облечённому всей полнотой власти впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок, на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования Учредительное Собрание своим решением об образе правления выразит волю народа.
Михаил ".
5 марта Совет рабочих и солдатских депутатов отдал приказ № 2 "в разъяснение и дополнение № 1". Приказ этот, оставляя в силе все основные положения, установленные 1-м, добавлял: приказ № 1 установил комитеты, но не выборное начальство; тем не менее, все произведённые уже выборы офицеров должны остаться в силе; комитеты имеют право возражать против назначения начальников; все петроградские солдаты должны подчиняться политическому руководству исключительно Совета рабочих и солдатских депутатов, а в вопросах, относящихся до военной службы – военным властям. Этот приказ, весьма несущественно отличавшийся от 1-го, был уже скреплен председателем военной комиссии Временного правительства.