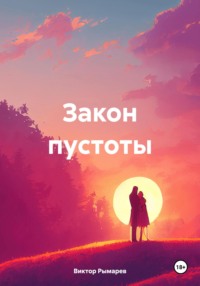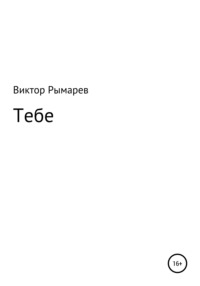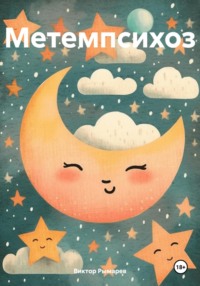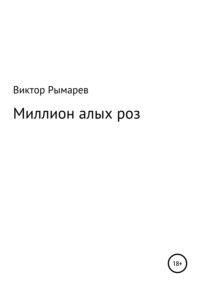Полная версия
ХХ век. Как это было
Царица Александра Федоровна не придала речи Милюкова должного значения. Она посмотрела на неё, как на личный выпад против Штюрмера, и только. А последним она уже давно была недовольна. К тому же он и в министры иностранных дел попал помимо неё и вопреки её мнению. Протопопов, по-видимому, сам не понимал всего значения происшедшего и укреплял Царицу в её мнении относительно речи. Но всё-таки Царица склонялась к тому, что Штюрмер должен уйти, но раньше, как бы по нездоровью, уехать в отпуск. Государь взглянул на дело много серьёзнее. Он понял, что Штюрмер должен оставить свои должности. Он оказался слаб, как премьер. Надо сильного, с характером человека. За внешнюю политику Государь не беспокоился. Он один, он сам, Государь, и только он направлял всегда русскую политику. И какой бы ни был министр Иностранных Дел, он явится только исполнителем воли Государя. А Государь был самый идейный, самый фанатичный сторонник союза с Францией и Англией. Самый энергичный сторонник продолжения войны до полного и победоносного конца. 9 ноября, вызванный в Ставку Штюрмер был принят Государем. Государь обласкал его и объявил об освобождении его от занимаемых должностей.
В тот же день Государь принял Министра Путей сообщения Трепова Александра Фёдоровича и предложил ему пост премьера. Польщённый высоким назначением, Трепов высказал Государю откровенно своё мнение на текущий политический момент и просил снять Протопопова с поста министра Внутренних Дел. Государь согласился. Согласился Государь на смещение и ещё двух министров которые были непопулярны, как поклонники Распутина. В тот же день Штюрмер и Трепов выехали в Петроград, а Государь на следующий день послал Царице обычное очередное письмо, в котором сообщал, о намеченном уходе Протопопова. Государь писал, между прочим: «Мне жаль Протопопова. Он хороший, честный человек, но он перескакивает с одной мысли на другую и не может решиться держаться определённого мнения. Я это с самого начала заметил. Говорят, что несколько лет тому назад он был не вполне нормален после известной болезни. (Когда он обращался к Бадмаеву). Рискованно оставлять в руках такого человека министерство внутренних дел в такие времена… …Только прошу тебя, не вмешивай нашего Друга. Ответственность несу я и поэтому я желаю быть свободным в своём выборе» (Письмо от 10 ноября 1916 г. из Ставки).
А. Ф. Трепов, которого призвал Государь на должность премьера, был старый, крепкий бюрократ с большим жизненным и административным опытом, умный, ловкий и энергичный человек, понимающий необходимость работать дружно с Государственной Думой. Предлагая Государю к увольнению некоторых министров, он намеревался сформировать кабинет, который бы понравился Думе. Но он не мог указать Государю подходящего Министра Внутренних Дел. Только он сам годился тогда на эту роль. Не мог не помнить Трепов и того, что фамилия их семьи была для широких кругов общества слишком правая исторически. Еще недавно имя Трепов было для левых, что красный плащ для разъярённого быка.
10 числа Штюрмер и Трепов вернулись в Петроград и были приняты Императрицей. Хитрый Штюрмер воздержался говорить Царице о предстоящих больших переменах. Трепов был откровеннее и погубил всё дело. В Петрограде оппозиция уже трубила победу над Протопоповым. Бадмаев и компания нажали на Распутина, на Вырубову. Царица, получив 11 числа письмо от Государя, была поражена, как громом. В проекте Трепова, которого она вообще не любила и считала, что он дружит с Родзянко, она увидела интригу, направленную, главным образом, против её влияния. Это новый поход на всех, кто предан Их Величествам. И Царица употребила всё свое влияние помешать плану Трепова, чтобы спасти, прежде всего, Протопопова. Телеграммами и письмами она умоляла Государя не сменять Протопопова, не делать новых назначений, не принимать с докладом Трепова до личного свидания с нею, Царицей. – «Не сменяй никого до нашего свидания, умоляю тебя, давай спокойно обсудим всё вместе, – писала царица мужу 11 ноября и продолжала: – «Ещё раз вспомни, что для тебя, для твоего царствования и Беби и для нас тебе необходимы прозорливость, молитвы и советы нашего Друга…»
15 ноября Государем был принят председатель Государственной Думы Родзянко. Родзянко изложил о том вреде, который приносит родине вмешательство в государственные дела Царицы Александры Фёдоровны. Говорил о вреде Распутина, о непригодности Протопопова, как министра, о заискиваниях некоторых министров перед «Старцем». Доложил о разных слухах, волнующих общество, до слуха об измене, включительно. Государь слушал спокойно, молча, курил и смотрел на ногти. После слов Родзянки об измене и шпионах Государь спросил насмешливо: – «Вы думаете, что я тоже изменник». Когда же Родзянко стал уверять, что Протопопов сумасшедший, Государь заметил, улыбнувшись, – «Вероятно с тех пор, как я сделал его министром». Докладчик не имел успеха. Государь вообще не принимал всерьёз того, что говорил ему Родзянко, на этот же раз он остался им недоволен и даже не разрешил гофмаршалу пригласить его к высочайшему столу. Это был большой афронт, вызвавший в Ставке большие пересуды. В Петербурге неуспех Родзянки возбудил большие разговоры, как в Думе, так и в высшем кругу общества и дал лишний повод к нареканиям по адресу Царицы.
Между тем, борьба за власть в Государственной Думе выражалась всё ярче и ярче. Милюковское выступление 1 ноября, оставшееся безнаказанным, имело колоссальный успех по всей России. Клеветнической речи верили. Торгово-промышленная Москва отозвалась на то выступление письмом на имя председателя Государственной Думы, которое заканчивалось словами: «Торгово-промышленная Москва заявляет Государственной Думе, что она душей и сердцем с нею».
26 ноября к Царице, испросив разрешение, приехала Великая Княгиня Виктория Фёдоровна, жена Великого Князя Кирилла Владимировича. Её родная сестра была королевой Румынской и, благодаря присоединению Румынии к союзникам, Виктория Фёдоровна стала как бы связующим звеном между двумя царствующими домами и её личные отношения с Их Величествами к этому моменту весьма улучшились. Последнее обстоятельство и толкнуло её на разговор с Царицей.
Расцеловавшись, как обычно, Царица спросила, не про Румынию ли хочет переговорить Великая Княгиня. Виктория Фёдоровна стала рассказывать всё, что она слышала от тех лиц, которых общество считало полезными для привлечения в состав правительства. Царица разволновалась. Она не соглашалась с Великой Княгиней и заявила, что уступка общественности это первый шаг к гибели. Те, кто требуют уступок – враги династии. Кто против нас? – спрашивала Царица и отвечала: – «Группа аристократов, играющая в бридж, сплетничающая, ничего в государственных делах не понимающая… Русский народ любит Государя, любит меня, любит нашу семью, он не хочет никаких перемен…» И в доказательство своей правоты Царица указывала на многочисленные письма, полученные со всех сторон России от простых людей, от раненых солдат и офицеров. Как последний довод, Великая Княгиня просила разрешения пригласить оставшегося у адмирала Нилова её супруга, Великого Князя Кирилла Владимировича, который может подтвердить то, что говорила она. Царица не пожелала. Они расстались. Царица вывела заключения из разговора, что «Владимировичи» настроены против неё, против её влияния на Государя. Болезненное воображение рисовало, что они лишь мечтают о наследовании престола после смерти Наследника.
Много шло тогда и резких анонимных писем по адресу Царицы, а ещё больше получала их её подруга А. А. Вырубова.
Сделала усилие повлиять на Царицу и её сестра Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна. По судьбе своего растерзанного взрывом бомбы мужа, по ужасам последнего немецкого погрома в Москве, Елизавета Фёдоровна знала хорошо, что такое наша политическая борьба… Женское окружение хорошо осведомляло её, что делается в общественных Московских кругах. И близкие люди, друзья и некоторые общественные Московские деятели, встречавшиеся с Великой Княгиней и не стеснявшиеся высказываться при ней откровенно, убедили её поехать и повлиять на Их Величеств. О том, что такое «старец» и его окружение она отлично знала, зачастую даже с преувеличением, от С. И. Тютчевой.
3 декабря к вечеру, Великая Княгиня приехала в Царское Село. Она хотела говорить с Государём, но Царица категорически заявила, что Царь очень занят, он завтра утром уезжает в Ставку и видеться с ним невозможно. Тогда Елизавета Фёдоровна стала говорить с сестрой-Царицей. Она старалась открыть ей глаза на всё происходящее в связи с Распутиным. Произошел резкий серьёзный спор, окончившийся разрывом. Александра Фёдоровна приняла тон Императрицы и попросила сестру замолчать и удалиться. Елизавета Фёдоровна, уходя, бросила сестре: «Вспомни судьбу Людовика 16-го и Марии Антуанет». Утром Елизавета Фёдоровна получила от Царицы записку, что поезд её ожидает. Царица с двумя старшими дочерьми проводила сестру на павильон. Больше они не виделись.
О том, что произошло в действительности между сёстрами, даже во дворце знали лишь немногие, самые близкие лица. В Москве же, из окружения Великой Княгини, в общественные круги сразу же проник слух, что Великая Княгиня потерпела полную неудачу. Распутин в полной силе. И это только усилило и без того крайне враждебное отношение к Царице. В Москве, больше чем где-либо, Царицу считали главной виновницей всего тогда происходящего, и оттуда этот слух расходился повсюду. От самой же Великой Княгини самые близкие люди узнали и о сказанной ею сестре ужасной последней фразе. Та фраза стала известна даже французскому послу Палеологу. Надо полагать, что это последнее свидание двух сестёр и было причиной тому, что Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна так сочувственно отнеслась к убийству «Старца», а после революции даже не сделала попытки повидаться с Царской Семьей.
4 декабря Государь с Наследником выехал в Ставку. Накануне Их Величества были у Вырубовой и видели там Распутина. Прощаясь, Государь хотел, чтобы Григорий перекрестил его, но Распутин, как-то странно, сказал: «Нет, сегодня ты меня благослови». Больше его Государь уже не видал. В Ставке почему-то ждали дарования Государем конституции, которой объявлено, конечно, не было. Вероятно, кто-то пустил тот слух, слыша кое-что про приготовляющийся особый Высочайший приказ. Приказ был подписан 12-го декабря. То был приказ политический и явился как бы ответом на вздорные сплетни о сепаратном мире. В нём говорилось, что Германия истощена, предлагает союзникам вступить в переговоры о мире, но что время к тому ещё не наступило, и что мир может быть дан «лишь после изгнания врага из наших пределов». Приказ был очень красив, очень академичен и прошеё совсем незамеченным. Автором приказа являлся генерал Гурко, а в составлении политической части принимал участие его брат, член Государственного Совета.
Между тем вся организованная общественность, уже переставшая, при никчёмном министре Внутренних дел Протопопове, бояться правительства, перешла в дружное наступление. С 9-го по 11-ое декабря в Москве был сделан ряд попыток собраний Съездов Земского и Городского Союзов. По распоряжению Протопопова полиция старалась мешать собраниям. Но те, всё-таки приняли заготовленные резолюции и разослали их по всей России. Резолюция Земского съезда, принятая под председательством князя Львова, требовала создания нового правительства, ответственного перед народным представительством.
Представители того же Земского Союза, Союза Городов, Военно-промышленных Комитетов, Московского биржевого Комитета, Хлебной биржи и кооперативов выпустили резолюцию явно революционного характера. Резолюция объявляла «Отечество в опасности» и говорила, между прочим: «Опираясь на организующийся народ, Государственная Дума должна неуклонно и мужественно довести начатое великое дело борьбы с нынешним политическим режимом до конца. Ни компромиссов, ни уступок… Пусть знает вся армия, что вся страна готова сплотиться для того, чтобы вывести Россию из переживаемого ею гибельного кризиса».
Съезд представителей Областных Военно-промышленных Комитетов принял 14-го декабря резолюцию, которой призывал на борьбу за создание «ответственного министерства» приглашал все общественные организации «не терять бодрости и напрячь все свои силы в общей борьбе за честь и свободу страны». В заключение Съезд обращался к армии и говорил: «В единении усилий страны и армии лежит залог и победы над общим врагом, и скорейшего водворения в России, требуемого всем народом, изменённого политического строя».
Рабочая делегация Совещания областных Военно-промышленных комитетов 13–15 декабря пошла ещё далее и ещё откровеннее. Она требовала использования текущего момента «для ускорения ликвидации войны в интересах международного пролетариата». Заявляла, что пролетариат должен бороться за заключение мира без аннексий и контрибуций, и что очередной задачей для рабочего класса является «решительное устранение нынешнего режима и создание на его месте временного правительства, опирающегося на организующийся самостоятельный и свободный народ».
В Москве же, в первый день недопущения, якобы, съездов, после 10 часов вечера, у князя Львова собрались, по его приглашению: М. М. Фёдоров, М. В. Челноков, Н. М. Кишкин и А. И. Хатисов. Князь Львов обрисовал общее положение дел и, как выход из него, предложил свержение Государя Николая II и замену его новым Государём, ныне Великим Князем Николаем Николаевичем, и составление ответственного министерства под председательством его – князя Львова. Эту свою кандидатуру князь мотивировал желанием большинства земств. Государя Николая II предполагалось вывезти за границу, Царицу заключить в монастырь. Переговорить с Великим Князем Николаем Николаевичем было поручено А. И. Хатисову. При согласии Великого Князя, Хатисов должен был прислать Львову телеграмму, что «госпиталь открывается», при несогласии – что «госпиталь не будет открыт». Хатисов это предложение принял и через несколько дней выехал в Петроград, а затем в Тифлис, где, успешно выполнил данное ему поручение.
Выступило против правительства и объединённое дворянство, всегда считавшееся до сих пор опорой трона и его правительства. На съезде 28 ноября новым председателем был выбран, вместо Струкова, Самарин. А в принятой 1-го декабря резолюции, между прочим, говорилось, что « Необходимо решительно устранить влияние тёмных сил на дела государственные; необходимо создать правительство сильное, русское по мысли и чувству, пользующееся народным доверием и способное к совместной работе с законодательными учреждениями».
За оппозиционную резолюцию из 126 участников голосовало 121. Правого депутата, Маркова 2-го даже не допустили на Съезд. Среди депутатов оппозиционеров Съезда некоторые носили придворные мундиры. В пылу спора П. Н. Крупенский крикнул одному из них: «Да вы, господа, прежде чем делать революцию, снимите ваши Придворные мундиры. Снимите их, а потом и делайте революцию».
Государственная Дума не замедлила ответить на присылавшиеся ей из Москвы призывы. В заседаниях 13–15 декабря депутаты резко нападали на правительство. Тучами прокламаций разносились по России принятые на Съездах резолюции. Участники Съездов непосредственно разносили по разным городам России директивы о подготовке государственного переворота и, в сущности говоря, сами стали продолжать на местах начатое на Съездах действо. Происходил могучий напор на правительство, напор, подготовлявший не только переворот, но и революцию; напор соединённых общественно-революционных сил.
Справиться с подобным напором могло только сильное, решительное, действующее дружно, заодно с Монархом, правительство, как это было в 1905 году, во время первой революции. Но в 1916 году в России такого правительства не было. Витте, Дурново, Столыпин, душившие одной рукой революцию и анархию и творившие другой необходимые реформы, – эти сильные люди спали в могилах.
Правительство 1916 года, по своему личному составу, было бессильно, слабо, неспособно противодействовать тому, что уже делалось и что подготовлялось. В такое исключительно важное время не было, в сущности, министра Внутренних дел. Его место занимал полубольной психически, болтун от общественности и политический шарлатан.
Помогавший ему, и то нелегально, его «товарищ министра» по делам полиции, генерал Курлов был надломленный физически человек, но и он, под давлением общественности и по слабости того же Протопопова, должен был уйти. 3 декабря состоялся указ Сенату о его назначении и увольнении. Вместо него, с конца ноября осталось, в полном смысле, пустое место. Председателя Совета министров, в действительности, тоже не было. Трепов, потерявший всякое доверие Монарха, со дня на день ждал увольнения. Эти два упора, на которых держится весь внутренний порядок, в действительности не существовали. Поэтому-то никто и не боялся действовать почти открыто революционно.
Ни Дворцовый комендант, ни политическая полиция министерства Внутренних дел ничего не знали про заговоры против личности Монарха.
Переживая тогда, часто случавшиеся с нею, приливы особо повышенной религиозности и веры в молитвы и богоугодность «Друга», Императрица решила совершить паломничество в Новгород. Там древние святыни, простой провинциальный народ, хороший человек губернатор Иславин. Вызванный в Царское Село обер-прокурор Синода, князь Жевахов доложил все нужные исторические справки, дал даже адрес одной «старицы». С Государыней поехали все четыре дочери, фрейлина графиня Гендрикова и А. А. Вырубова. Это последнее было даже вредно, но того хотел Распутин. Это же – постоянный передатчик его воли и желаний. Его медиум.
11 декабря, в 9 ч. утра императорский поезд подошел к дебаркадеру Новгорода. Встречали: губернатор, предводитель дворянства и начальник гарнизона. Губернатор рапортовал. Царица любезно подала всем руку. В зале вокзала губернаторша Иславина, с двумя дочерьми, встретила с букетами цветов. Во дворе вокзала маршевый эскадрон Лейб-гвардии Её Величества уланского полка, в конном строю, приветствовал своего шефа. То была последняя встреча полка со своим любимым шефом.
12 декабря Царица обедала у А. А. Вырубовой с Распутиным. Она рассказывала о своих впечатлениях посещения Новгорода, о восторженной встрече. Старец слушал довольно равнодушно. Все последние дни очень нервничал. По телефону то и дело угрожали, что его убьют. Протопопов же, а особенно Бадмаев, Белецкий и Мануйлов, каждый по-своему, растолковали ему, что готовится в России, как серьёзно надо предупредить обо всём Царицу. И вот, выслушав Царицу, он стал говорить. Дума, Союзы, либералы, революционеры, газетчики – все против Царя, против неё. Трепову верить нельзя – якшается с Родзянкой. Верить можно только Протопопову. Только на него можно положиться. Надо действовать.
И Царица верит предостережениям Старца. Он чувствует. Он провидец. И, встревоженная, она старается встревожить и Государя. Она умоляет его в письмах начать действовать против надвигающейся опасности. Умоляет закрыть Государственную Думу, принять еще и другие меры.
«Будь Петром Великим, Иваном Грозным, Императором Павлом, сокруши всех», – писала Царица мужу 14 декабря. – «Я бы повесила Трепова за его дурные советы. Распусти Думу сейчас же. Спокойно и с чистой совестью перед всей Россией я бы сослала Львова в Сибирь. Отняла бы чин у Самарина. Милюкова, Гучкова и Поливанова – тоже в Сибирь. Теперь война, и в такое время внутренняя война есть высшая измена. Отчего ты не смотришь на это дело так, я, право, не могу понять?»
А по Петербургу уже ползли слухи, что Распутина убьют, убьют и Вырубову, убьют и Царицу. В то время в кабинете одного положительного правого журналиста собиралась группа офицеров гвардейских полков, которые серьёзно обсуждали вопрос, как убить Императрицу. Один гвардейский офицер предупреждал тогда А. А. Вырубову о предстоящем террористическом акте, но это казалось бравадой, шуткой и ему не верили.
15-го декабря Распутин приезжал к А. А. Вырубовой. Он хотел лично поблагодарить Царицу за помилование его друга Мануйлова. Царица не пожелала приехать. Старец был огорчён.
Кровавый опыт привёл, наконец, к простой идее мобилизации русской промышленности. И дело, вырвавшееся из мертвящей обстановки военных канцелярий, пошло широким ходом. По официальным данным на армию посылалось в июле 1915 г. по 33 парка вместо затребованных 50-ти, а в сентябре, благодаря привлечению к работе частных заводов – 78. К концу 1916 г. армия, не достигнув, конечно, тех высоких норм, которые практиковались в армиях союзников, обладала всё же вполне достаточными боевыми средствами, чтобы начать планомерную и широкую операцию на всём своём фронте.
Это обстоятельство также было учтено надлежаще в войсках, укрепляя доверие к Государственной Думе и общественным организациям. Но в области внутренней политики положение не улучшалось. И к началу 1917 года крайне напряжённая атмосфера политической борьбы выдвинула новое средство:
– Переворот!
Безудержная вакханалия, какой-то садизм власти, который проявляли сменявшиеся один за другим правители распутинского назначения, к началу 1917 года привели к тому, что в государстве не было ни одной политической партии, ни одного сословия, ни одного класса, на которое могло бы опереться царское правительство. Врагом народа его считали все: Пуришкевич и Чхеидзе, объединённое дворянство и рабочие группы, великие князья и сколько-нибудь образованные солдаты.
В Севастополь к больному Алексееву приехали представители некоторых думских и общественных кругов. Они совершенно откровенно заявили, что назревает переворот. Как отнесётся к этому страна, они знают. Но какое впечатление произведёт переворот на фронте, они учесть не могут. Просили совета.
Алексеев в самой категорической форме указал на недопустимость каких бы то ни было государственных потрясений во время войны, на смертельную угрозу фронту, который по его пессимистическому определению "итак не слишком прочно держится", и просил во имя сохранения армии не делать этого шага.
Представители уехали, обещав принять меры к предотвращению готовившегося переворота.
Те же представители вслед за Алексеевым посетили Брусилова и Рузского и, получив от них ответ противоположного свойства, изменили своё первоначальное решение: подготовка переворота продолжалась.
В состав образовавшихся кружков входили некоторые члены правых и либеральных кругов Государственной Думы, прогрессивного блока, члены императорской фамилии и офицерство. Активным действиям должно было предшествовать последнее обращение к государю одного из великих князей… В случае неуспеха, в первой половине марта предполагалось вооружённой силой остановить императорский поезд во время следования его из Ставки в Петроград. Далее должно было последовать предложение государю отречься от престола, а в случае несогласия, физическое его устранение. Наследником предполагался законный правопреемник Алексей и регентом Михаил Александрович.
В то же время большая группа прогрессивного блока, земских и городских деятелей, причастная или осведомлённая о целях кружка, имела ряд заседаний для выяснения вопроса " какую роль должна сыграть после переворота Государственная Дума". Тогда же был намечен и первый состав кабинета, причём выбор главы его, после обсуждения кандидатур М. Родзянко и князя Львова, остановился на последнем.
Но судьба распорядилась иначе.
Раньше предполагавшегося переворота началась, по определению Альбера Тома, "самая солнечная, самая праздничная, самая бескровная русская революция"…
Находившая благоприятную почву в общих условиях жизни страны подготовка к революции прямо или косвенно велась давно. В ней приняли участие самые разнородные элементы: германское правительство, не жалевшее средств на социалистическую и пораженческую пропаганду в России, в особенности среди петроградских рабочих; социалистические партии, организовавшие свои ячейки среди рабочих и воинских частей; несомненно и протопоповское министерство, как говорили, провоцировавшее уличное выступление, чтобы вооружённой силой подавить его и тем разрядить невыносимо сгущённую атмосферу. Как будто все силы – по диаметрально противоположным побуждениям, разными путями, различными средствами шли к одной конечной цели…
Правительственными мероприятиями, при отсутствии общественной организации, расстраивалась промышленная жизнь страны, транспорт, исчезало топливо. Правительство оказалось бессильно и неумело в борьбе с этой разрухой, одной из причин которой были, несомненно, и эгоистические, иногда хищнические устремления торгово-промышленников.
Деревня была обездолена. Ряд тяжких мобилизаций без каких-либо льгот и изъятий, которые предоставлялись другим классам, работавшим на оборону, отняли у неё рабочие руки. А неустойчивость твёрдых цен, с поправками, внесенными в пользу крупного землевладения – в начале, и затем злоупотребление в системе развёрстки хлебной повинности, при отсутствии товарообмена с городом, привели к прекращению подвоза хлеба, голоду в городе и репрессиям в деревне.