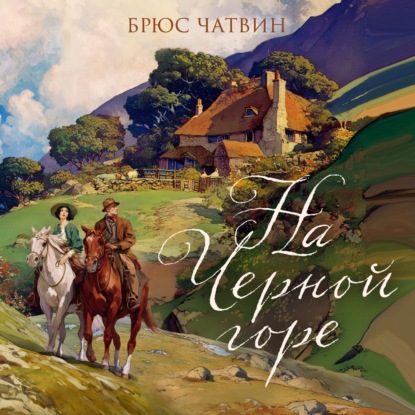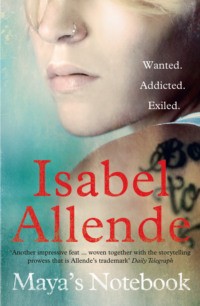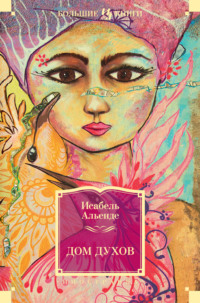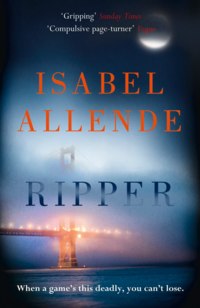Полная версия
Ева Луна. Истории Евы Луны
Мой мир был ограничен решеткой вокруг сада. Там, внутри, время текло по своим, порой весьма капризным законам; за полчаса я могла совершить с полдюжины кругосветных путешествий, обойдя вокруг моего собственного земного шара; в то же время отблеск лунного света на плитах внутреннего дворика мог дать мне пищу для размышлений на целую неделю. Свет и темнота – вот что определяло основные перемены в природе вещей моего мира; книги, тихие и неподвижные в течение дня, с наступлением ночи оживали и открывались, их герои сходили со страниц, бродили по комнатам и проживали жизнь, полную приключений; мумии, такие жалкие, беспомощные и робкие в часы, когда солнце наполняло дом ярким светом, с наступлением сумерек обретали силу и прочность камня, а в ночной темноте еще и превращались в настоящих великанов. В том мире пространство растягивалось и сжималось по моей прихоти; крохотный чулан под лестницей мог вместить в себя целую Солнечную систему, а огромное небо, если смотреть на него из слухового окна на чердаке, съеживалось до размеров бледного кружочка. Одного моего слова было достаточно, чтобы преобразить внешний мир до неузнаваемости.
Так я и росла в доме у подножия холма – свободная и уверенная в себе. Я практически не общалась с другими детьми, да и с посторонними взрослыми не часто встречалась: гости в доме почти не бывали, если не считать одного человека, неизменно одетого в черный костюм и черную же шляпу. Это был протестантский проповедник, приносивший с собой Библию, с помощью которой ему удалось изрядно подпортить профессору Джонсу последние годы жизни. Этого человека я боялась куда больше, чем хозяина.
Глава вторая
За восемь лет до моего рождения, в тот самый день, когда в своей постели тихо, как скромный, незаметный и безвредный старичок, ушел из жизни Благодетель нашего Отечества, в одной деревушке на севере Австрии появился на свет мальчик, которого назвали Рольфом. Он был младшим сыном Лукаса Карле́, школьного учителя, наводившего ужас на своих учеников. В те времена телесные наказания представляли собой неотъемлемую часть образовательного процесса: мол, без розги и учеба не учеба. Эта народная мудрость, ставшая краеугольным камнем педагогической теории, настолько крепко засела в мозгах у людей, что никому из здравомыслящих родителей и в голову бы не пришло оспаривать целесообразность подобных воспитательных мер. Тем не менее, когда учитель Карле сломал пальцы одному мальчику, дирекция школы запретила ему использовать для наказания нерадивых учеников тяжелую линейку: всем было ясно, что буквально с первого удара Карле впадал в экстаз и продолжал колотить, уже не отдавая себе отчета в своих действиях и их возможных последствиях. Желая отомстить учителю, школьники изводили его старшего сына Йохена: если им удавалось поймать его где-нибудь в укромном месте, то на него обрушивался целый град ударов и пинков. Так он и рос, привычно убегая от сверстников, при первой возможности отрекаясь от своей фамилии, – тихий и незаметный, как стелющаяся по земле былинка.
Дома у Лукаса Карле царил такой же страх, как и на его уроках в школе. С женой его связывали лишь узы сожительства: о любви в этом браке не могло быть и речи. Самое любовь он считал понятием, применимым в разговорах о музыке или литературе, но не имеющим никакого отношения к повседневной жизни. Они поженились почти сразу же после знакомства; узнать друг друга получше у жениха и невесты не было времени. Молодая жена возненавидела мужа после первой же брачной ночи. Для самого Лукаса Карле супруга была существом низшего порядка, тварью, стоящей куда ближе к животным, чем к единственному разумному существу в этом мире – мужчине. Теоретически он должен был бы испытывать к этой женщине смешанное чувство презрения и сострадания, но на практике все вышло иначе: жена бесила его и выводила из себя одним своим присутствием. Он появился в этой деревне когда-то давно, измученный долгой дорогой. Первая мировая война лишила его не только родины, но и всяких средств к существованию. В кармане у него лежал диплом учителя и деньги – сумма, на которую можно было прожить примерно неделю. Первым делом он нашел себе работу, а вторым – жену. В своем выборе он опирался на два довода: во-первых, ему понравилось выражение страха, которое он вскоре после знакомства стал замечать в глазах жены, а во-вторых, он оценил по достоинству ее широкие бедра. Он был уверен, что такая особенность фигуры – необходимое условие, чтобы зачать, выносить и родить ему наследников (непременно мужского пола), а также выполнять всю самую тяжелую работу по дому. Также на его решение повлияли два гектара земли, полдюжины голов скота и скромная рента, которую девушка унаследовала от отца. Все это перешло после свадьбы в собственность мужа – полноправного распорядителя всего имущества супругов.
Лукасу Карле нравились женские туфли на высоких каблуках, в особенности из красной лакированной кожи. Наезжая время от времени в ближайший город, он всякий раз снимал проститутку и платил ей за то, чтобы она ходила перед ним по комнате голой, но обязательно в красных, страшно неудобных из-за высоких каблуков туфлях. Сам он в это время восседал на стуле, полностью одетый, включая пальто и шляпу. Напуская на себя серьезный вид, он на самом деле испытывал неописуемый восторг от возможности созерцать это восхитительное зрелище: женские ягодицы – как можно более пышные, белые, с ямочками, – которые перекатываются из стороны в сторону при каждом шаге. Разумеется, ни с одной из этих женщин он не спал и даже не прикасался к ним – строгое соблюдение правил гигиены было его идеей фикс. В средствах он был сильно ограничен и поэтому не мог позволить себе это развлечение так часто, как ему бы хотелось. Хорошенько подумав, он купил французские туфли ярко-красного цвета и спрятал коробку в самом дальнем углу платяного шкафа. С тех пор он время от времени запирал детей в другой комнате, заводил патефон на полную громкость и звал жену. Та уже успела научиться предугадывать изменения в настроениях мужа и понимала, что настал час жертвоприношения, еще до того, как Лукас сам осознавал, что с ним происходит. От ужаса ее бросало в дрожь, посуда выскальзывала из рук и с грохотом разбивалась об пол.
Карле не выносил никакого шума в доме, поскольку, по его мнению, достаточно шума он терпел в школе. Его дети научились не смеяться и не плакать в присутствии отца. По дому они передвигались совершенно беззвучно, словно тени, и говорили только шепотом. В своем старании быть незаметными они приобрели такую сноровку, что матери порой казалось, будто она может видеть прямо сквозь них. С затаенным ужасом в душе она вновь и вновь задумывалась о том, не станут ли они со временем на самом деле прозрачными, словно призраки. Господин учитель пребывал в уверенности, что законы генетики сыграли с ним злую шутку. Дети совершенно ему не удались. Йохен был медлительный, неловкий и неуклюжий, учился посредственно, часто засыпал прямо на уроках, писался в кровать и вообще никак не соответствовал тем надеждам, которые возлагал на него отец. О Катарине отец предпочитал вообще не упоминать и не вспоминать. Девочка была недоразвитой. Он был уверен лишь в одном: в его семье за много поколений таких выродков не было, следовательно, он мог не считать себя виноватым в том, что его дочь родилась неполноценной. Да и кто знает, его ли она вообще дочь. Он не дал бы руку на отсечение, чтобы поручиться за чью-либо верность, а уж тем более за верность собственной жены. К счастью, Катарина родилась неполноценной не только психически, но и физически. Врач сказал, что у нее в сердце какая-то дырочка и долго этот ребенок не проживет. Ну так оно и к лучшему.
Учитывая столь скромные успехи во всем, что касалось двоих старших детей, Лукас Карле не пришел в восторг, узнав, что его жена беременна в третий раз. Но когда на свет родился крупный розовый сероглазый мальчик с крепкими ручками и ножками, его отец почувствовал себя вознагражденным. Наконец-то у него появился наследник, о котором он всегда мечтал, достойный носить гордое имя Карле. Ребенка следовало немедленно оградить от дурного влияния матери. Ничто так легко и бесповоротно не губит хорошую мужскую наследственность, как женское сюсюканье. Не вздумай кутать его в шерстяную одежду, пусть закаляется; оставляй его надолго в темноте, пусть привыкает не бояться; не таскай его на руках, пусть кричит и плачет хоть до посинения – только легкие здоровее будут, – такие приказы отдавал Лукас своей супруге. Та при муже выполняла все его указания, но у него за спиной надевала на ребенка самую теплую одежду, кормила его как можно чаще, баюкала на руках и пела колыбельные. Такая жизнь – то в тепле, то в холоде, то со шлепками и оплеухами, то в безбрежной любви и баловстве, то с ночевками в темном шкафу, то с поцелуями в знак утешения – рано или поздно свела бы с ума кого угодно. И все же Рольфу Карле повезло. Его психика оказалась крепче, чем у сестры, и он сумел выдержать то, что могло бы погубить любого другого. Кроме того, и это оказалось еще важнее, через несколько лет после его рождения началась Вторая мировая война и отец записался в армию, избавив тем самым жену и детей от своего присутствия. Война оказалась самым счастливым временем в детстве Рольфа.
Пока в Южной Америке, в доме профессора Джонса, накапливались забальзамированные мумии, а укушенный ядовитой змеей мужчина отдавал свое семя женщине, которая родила девочку и назвала Евой, чтобы это имя помогло ей обрести волю к жизни, в Европе далеко не все шло привычным чередом. Из-за войны весь окружающий мир наполнился страхом и пришел в смятение. Когда девочка училась ходить, держась за подол маминой юбки, по другую сторону Атлантики, на лежащем в руинах континенте, подписывались мирные договоры. На этом берегу океана мало кто терял сон и покой из-за насилия, творившегося в такой дальней дали. Большинству хватало и того насилия, которое окружало их каждый день.
Подросший Рольф Карле был мальчиком наблюдательным, гордым и настойчивым, но при этом в нем стала проявляться и некоторая склонность к романтике, что приводило его самого в смущение, а в глазах других мальчишек было признаком слабости. В те времена, насквозь пронизанные войной, он вместе с другими ребятами играл в заброшенных окопах и сбитых самолетах, но в глубине души его гораздо больше трогали распустившиеся весной почки, летние цветы, золото осени и печальное белое покрывало, которое раскидывает над землей наступающая зима. В любое время года он при первой возможности уходил в лес, где подолгу гулял, собирая листья и насекомых, которых потом внимательно разглядывал под увеличительным стеклом. Страницу за страницей он вырывал из школьных тетрадей, чтобы писать на них стихи. Затем прятал листочки в дуплах деревьев или под придорожными камнями, втайне даже от самого себя надеясь, что кто-нибудь их рано или поздно найдет. Об этом он никогда никому не рассказывал.
Мальчику было десять лет, когда однажды его повели копать могилы. В тот день у него было отличное настроение: его старший брат Йохен сумел поймать в силки зайца, и теперь по всему дому распространялся бесподобный аромат тушеного мяса, вымоченного в уксусе и приправленного розмарином. Рольф уже почти забыл этот запах – так давно в их доме не готовили ничего мясного. Предвкушая удовольствие от ужина, он беспокойно ходил по дому, и лишь вколоченное с младенчества послушание не позволяло ему тайком приоткрыть крышку кастрюли и опустить ложку в соус. А еще в тот день мать пекла хлеб. Ему нравилось смотреть, как она стоит, наклонившись над столом и запустив руки по локоть в тесто. Казалось, все ее тело, когда она месила густую вязкую массу, двигается вслед за руками. Хорошенько вымесив тесто и дав ему подняться, мать раскатывала его и сворачивала в длинные колбаски, которые затем резала на равные куски: из них и выпекались маленькие круглые хлебцы. Раньше, в мирные времена, она оставляла немного теста в отдельной миске, добавляла в него молоко, яйца, корицу и пекла сладкие шарики. Это лакомство она складывала в большую жестяную банку и выдавала каждому из детей по одному шарику в день – до следующей недели, когда все повторялось заново. Но сейчас ей приходилось добавлять в муку отруби, и хлеб получался темный и кислый, вроде того, что пекут с древесной мукой.
То утро началось с шума и суматохи на улице – через деревню отряд за отрядом проходили оккупационные войска. Раздавались громкие голоса командиров, но никто из местных жителей особо не обеспокоился: свою меру страха, потерпев поражение в войне, они уже почти исчерпали, и теперь этого чувства у них едва ли хватило бы, чтобы всерьез озаботиться из-за какого-либо дурного предзнаменования. После заключения мира в деревне обосновались русские солдаты. Слухи об их жестокости бежали впереди наступающей Красной армии и предвещали настоящую кровавую баню. Они ведь хуже зверей, говорили люди, они вспарывают животы беременным женщинам и швыряют нерожденных младенцев голодным собакам. Всех стариков без разбору они закалывают штыками, а мужчинам вставляют в зад динамит и смотрят, как человека разрывает на куски. Эти исчадия ада разрушают и жгут дома, убивают, насилуют. Вопреки ожиданиям все пошло не так – гораздо более мирно и спокойно. Деревенский староста подыскал этому подходящее объяснение. С его слов выходило, что их деревне сказочно повезло: русские солдаты, пришедшие сюда, были с самых дальних окраин своей страны, наименее затронутых войной, и поэтому у них накопилось меньше злобы и ненависти, а желание отомстить побежденному противнику не было столь всепожирающим. В деревню вошел отряд с грузовиками и какой-то тяжелой техникой, которую везли огромные тягачи. Командовал солдатами молодой офицер с азиатскими чертами лица. Русские реквизировали продовольствие и прошлись по домам, собирая в свои вещмешки все ценные вещи, которые жители не успели хорошенько припрятать. Выбранные фактически наугад шестеро мужчин были обвинены в пособничестве немцам и расстреляны на месте. После этого русские разбили лагерь по соседству с деревней и на этом успокоились. В тот день в громкоговорители объявили, чтобы жители деревни собрались на центральной площади. Вслед за тем по домам прошлись солдаты, угрозы которых вполне убедительно подействовали на тех, кто сомневался: стоит ли выполнять это распоряжение. Мать поспешно надела на Катарину теплую жилетку и вышла из дому, боясь, что солдаты вполне могут забрать у них и тушеную зайчатину, и выпеченный на всю неделю хлеб. Вместе с тремя детьми – Йохеном, Катариной и Рольфом – она направилась на площадь. Их деревня за время войны пострадала меньше, чем многие другие. Полностью разрушено было только здание школы. В один воскресный вечер в него попала бомба, и обломки парт и грифельных досок разметало чуть не по всей деревне. Часть средневековой каменной мостовой на площади была разобрана: отряды сопротивления использовали булыжники для баррикад. Во власти победившего противника оказались часы со здания ратуши, церковный орган и вино последнего урожая – все то, что, собственно говоря, и представляло хоть какую-то ценность в деревне. Фасады домов никто давно не красил, и кое-где на них виднелись следы от пуль. Впрочем, все это не могло разрушить очарования, которое старинные здания обрели за долгие века своего существования.
Подгоняемые солдатами, жители деревни собрались на площади; советский комендант, в изношенной, потрепанной форме, рваных сапогах и с недельной бородой, прошелся вдоль подобия строя, образованного насмерть перепуганными людьми, внимательно рассматривая каждого в упор. Никто не смог выдержать этого взгляда: люди опускали глаза, вжимали голову в плечи и готовились к худшему; лишь Катарина бесстрашно встретила взгляд чужеземного офицера и, думая о чем-то своем, стала преспокойно ковырять в носу.
– Она что, слабоумная? – спросил офицер, показывая пальцем на девочку.
– Да, от рождения, – тихо ответила госпожа Карле.
– Тогда нет смысла тащить ее с собой. Оставьте ее здесь.
– Ее нельзя оставлять одну. Прошу вас, позвольте ей пойти с нами.
– Как хотите.
Так они простояли на площади под еще нежарким, к счастью, весенним солнцем два часа; отойти куда-нибудь в сторону было невозможно – со всех сторон было выставлено оцепление. Старики опирались на молодых и наиболее сильных, дети ложились спать прямо на землю, самых маленьких отцы держали на руках; наконец прозвучала команда строиться в колонну и отправляться в путь. Процессию возглавлял джип коменданта, а с флангов и тыла жителей конвоировали и подгоняли солдаты; в первой шеренге шли деревенский староста и директор школы – последние представители власти, чей авторитет еще хоть как-то признавался в хаосе обрушившегося на деревню кошмара. Люди шли молча и лишь иногда беспокойно оглядывались на крыши родных домов, возвышающиеся над холмами; каждый про себя задавался одним и тем же вопросом: куда ведут? Наконец всем стало ясно, что колонну конвоируют к лагерю для военнопленных. Сердца жителей деревни сжались.
Рольф отлично знал эту дорогу: не раз и не два уходил он вместе с Йохеном в эту сторону, чтобы ловить змей, ставить капканы на лис или же собирать хворост. Иногда братья доходили почти до самого лагеря; они прятались в тех местах, где можно было ближе всего подобраться к ограде из колючей проволоки. Что делалось в самом лагере, на расстоянии видно было плохо, и мальчишки лишь слышали вой сирен да время от времени ощущали какой-то неприятный запах. Когда ветер дул со стороны лагеря военнопленных, такой же запах ощущался даже в деревне; никто ни о чем не спрашивал, никто не заговаривал на эту тему: все делали вид, будто ничего не чувствуют. И вот теперь Рольф Карле, как и другие жители деревни, впервые оказался за тяжелыми металлическими воротами; мальчик тотчас же обратил внимание, насколько земля под ногами на территории концлагеря отличается от земли тех полей, которые его окружали: здесь, за оградой, не видно было ни единой травинки и почва казалась пересохшей и бесплодной, как в пустыне. Он очень удивился такой перемене в ландшафте, потому что все окрестные холмы давно уже были покрыты зеленым ковром свежей травы. Колонна прошла по длинной дорожке, пересекла несколько разделительных линий, отмеченных мотками колючей проволоки, миновала ряд наблюдательных вышек и пулеметных гнезд и наконец оказалась в большом квадратном дворе. С одной стороны его ограничивали мрачные бараки без окон, а с другой – возвышалось какое-то сооружение с несколькими дымовыми трубами. Чуть поодаль виднелись уборные и несколько виселиц. Весна, по всей видимости, не смогла проникнуть за ворота лагеря: здесь все было серо, словно подернуто густым туманом – туманом зимы, оставшейся тут навеки. Жители деревни подошли к баракам и инстинктивно сбились в плотную толпу; касаясь соседей локтями и плечами, они словно пытались поддержать друг друга в минуту этого зловещего напряжения; особенно сильно давила на психику стоявшая в лагере гробовая тишина. Даже небо и то казалось отсюда грязно-серым, словно покрытым слоем пепла. Послышалась команда офицера, и солдаты погнали деревенских жителей к главному зданию; их гнали, как стадо скота, поторапливая замешкавшихся уколами штыков и ударами прикладов. Вот тогда они их и увидели. Тех, которые были там. Они лежали грудами на полу один на другом. Их было много десятков: истерзанные, многие частично расчлененные – целые горы того, что отдаленно напоминало какие-то чудовищные бревна и жерди. Поначалу никто не поверил, что это действительно человеческие тела; увиденное показалось невольным зрителям грудой марионеток, выброшенных из какого-то зловещего кукольного театра; подталкиваемые со всех сторон прикладами, люди приблизились к распахнутым воротам барака и не только увидели в деталях эту кошмарную картину, но и почувствовали ударивший им в ноздри в полную силу уже знакомый запах. Это зрелище, тишина и чудовищный смрад навеки впечатались в память всех тех, кто оказался в тот день во дворе концлагеря. В оглушительной тишине каждый услышал, как бьется его собственное сердце. Никто не произнес ни слова, да и о чем в тот миг можно было говорить. Долго стояли они так – молча и неподвижно; наконец комендант взял лопату и протянул ее старосте. Солдаты раздали лопаты другим жителям деревни.
– Начинайте копать, – тихо, почти шепотом приказал русский офицер.
Катарину вместе с маленькими детьми отослали подальше: им велели сидеть у основания одной из виселиц, никуда не уходить и ждать, пока взрослые закончат работу. Рольф оказался рядом с Йохеном. Земля была твердая, и копать было тяжело, мелкие камешки и песок впивались в пальцы и попадали под ногти, но Рольф ни на миг не прервал работу; согнувшись и вжав голову в плечи, глядя себе под ноги из-под спадавших на лицо волос, он копал и копал, сгорая от стыда, который так никогда и не смог забыть, который преследовал его всю жизнь, как бесконечно повторяющийся кошмарный сон. Он ни разу не поднял голову и не посмотрел по сторонам. Он даже не слышал раздававшихся вокруг звуков – ни ударов лопат о камни, ни сбивчивого и хриплого дыхания усталых людей, ни плача и всхлипываний женщин.
К тому времени, когда могилы были выкопаны, наступила ночь. Рольф заметил, что на наблюдательных вышках зажглись прожекторы, и ночь мгновенно наполнилась ярким неживым светом. Русский офицер приказал работавшим выстроиться в колонну по двое и перенести трупы в могилы. Мальчик вытер натруженные руки о штаны, стер пот со лба и вместе с Йохеном шагнул вслед за взрослыми. Увидев это, их мать хрипло закричала, желая остановить сыновей, но оба уже вошли в барак вместе с остальными; когда настала их очередь, они наклонились над кучей трупов и подняли одно из мертвых тел, взяв его за запястья и лодыжки. Их ноша мало напоминала человеческое тело в привычном понимании: фактически это был скелет, обтянутый кожей, без одежды, наголо бритый, сухой и холодный, словно фарфоровая кукла. Будто связанные своей ношей, братья пошли в сторону вырытой на лагерном плацу могилы. Голова трупа была запрокинута, а сам он едва заметно раскачивался в их руках. Рольф обернулся, чтобы посмотреть на мать, и увидел ее согнувшейся пополам от приступа тошноты; он был бы рад как-нибудь успокоить и утешить ее, пусть хотя бы жестом, но его руки были заняты.
Работа по захоронению узников концлагеря закончилась далеко за полночь. Вырытые могилы были заполнены почти до самых краев, сверху их засыпали землей, но час возвращения домой еще не настал. Сначала солдаты заставили жителей деревни пройти по баракам, побывать в камере смертников, осмотреть печи крематория и прошагать под виселицами. Никто из тех, кому выпало хоронить пленников, не осмелился прочитать над могилами хотя бы краткую молитву. В глубине души каждый понимал, что с этого дня все они вместе и каждый в отдельности будут пытаться забыть увиденное, стараться подавить в душе пережитый ужас, вырвать его из своего сердца; все заранее согласились никогда не говорить о том, что им довелось пережить в этот день и что они видели в этом жутком месте. Каждый лелеял надежду, что время поможет стереть чудовищные воспоминания из памяти, и каждый ясно понимал, сколь тщетна эта надежда. Наконец они отправились в обратный путь; измученные духовно и физически, они шли медленно, едва передвигая ноги. Последним шел Рольф Карле, которому казалось, что он идет по дороге в строю скелетов, абсолютно одинаковых перед лицом отчаяния и смертной тоски.
Неделю спустя домой вернулся Лукас Карле, которого Рольф даже не узнал; впрочем, в этом не было ничего удивительного: когда отец уходил на фронт, его младший сын был еще слишком мал и не умел пользоваться разумом и памятью по своей воле. Кроме того, человек, который в тот вечер неожиданно ввалился в их кухню, совершенно не походил на того мужчину, чья фотография висела над камином. За годы отсутствия отца Рольф создал для себя его героический образ: в представлении мальчика отец носил красивую форму летчика, а на груди у него в несколько рядов сверкали полученные за воинскую доблесть награды; он был гордым и непременно носил сапоги, начищенные до такого блеска, что ребенок мог смотреться в них, как в зеркало. Так вот: этот образ не имел никакого отношения к человеку, внезапно ворвавшемуся в его жизнь; Рольф даже не поздоровался с незнакомцем, посчитав, что это какой-то нищий пришел просить подаяние. У человека на фотографии были роскошные ухоженные усы, а глаза – серые, как зимние тучи, – горели холодным, властным огнем. Тот же, кто вдруг вломился к ним на кухню, был одет в непомерно большие, подвязанные веревкой солдатские штаны и потертый, кое-где порванный френч; на шее у него был повязан грязный платок, а ноги обуты вовсе не в начищенные до зеркального блеска сапоги, а в какие-то самодельные опорки. Роста он был невысокого, плохо побрит, а его волосы, выстриженные клочьями, торчали на голове непослушным ежиком. Нет, этого человека Рольф отказывался узнавать. Но остальные члены семьи отреагировали на его появление именно так, как и полагается встретить вернувшегося с войны отца и мужа. Мать зажала рот обеими руками, Йохен вскочил из-за стола и, сделав непроизвольно шаг назад, опрокинул свой стул, а Катарина мгновенно сползла со стула и спряталась под стол, чего не делала уже долгое время: по всей видимости, страх пробудил в ней давние, уже почти забытые рефлексы.