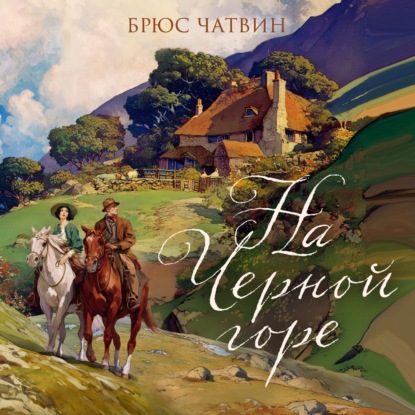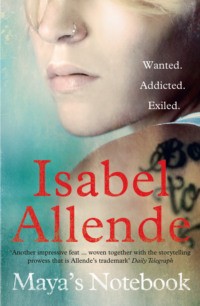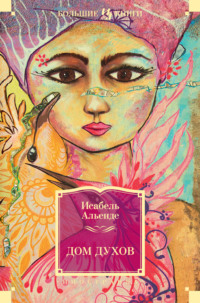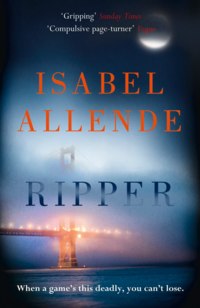Полная версия
Ева Луна. Истории Евы Луны
В тот день, когда была похоронена любимая мумия профессора Джонса – забальзамированное тело адвоката, ставшего жертвой кровавой диктатуры, – у самого профессора случился припадок бешенства, закончившийся кровоизлиянием в мозг. По ходатайству новых властей, которые не желали каким-либо образом связывать себя с предыдущим режимом, родственники жертвы тирании согласились предать тело адвоката земле; похороны были организованы с размахом и роскошью; впрочем, многие из присутствовавших на траурной церемонии не могли избавиться от ощущения, что убитого много лет назад либерала хоронят заживо, – настолько хорошо он выглядел. Профессор Джонс приложил все усилия, чтобы его любимое детище не было погребено в своем фамильном склепе; увы, все было напрасно. В порыве отчаяния он встал в кладбищенских воротах в надежде преградить дорогу траурной процессии. Кучер, управлявший катафалком, на котором возвышался гроб из полированного красного дерева, с серебряными ручками, даже и не подумал попридержать лошадей; в общем, если бы доктор не отскочил в сторону, его просто растоптали бы без малейшего сочувствия и уважения. Когда церемония закончилась и нишу склепа закрыли мраморной плитой, великий мастер бальзамирования рухнул на землю как громом пораженный; одну половину его тела парализовало, а другая билась в конвульсиях. Вместе с адвокатом либеральных убеждений в мраморном склепе было погребено главное свидетельство того, что методика, разработанная профессором, действительно позволяла обмануть природу и препятствовала разложению тела в течение неограниченного времени.
Вот, пожалуй, и все знаменательные события, происшедшие в жизни Консуэло за годы пребывания в доме профессора Джонса. Все различия между диктатурой и демократией свелись для нее к тому, что теперь она могла сходить в кино и посмотреть какой-нибудь фильм с участием Карлоса Гарделя[5], на которые раньше девушек не пускали; кроме того, так уж получилось, что политические перемены в стране совпали со значительным ухудшением здоровья ее хозяина. После случившегося на кладбище припадка он фактически стал инвалидом, за которым нужно было ухаживать и присматривать, как за малым ребенком. Впрочем, его привычки и образ жизни практически не менялись вплоть до того дня, когда работавшего у него садовника укусила ядовитая змея. Садовником был индеец, высокий, крепкий мужчина с мягкими чертами лица, на котором словно застыло унылое, меланхоличное выражение; за все годы совместной работы Консуэло едва ли обменялась с ним десятком фраз, несмотря на то что он частенько помогал ей при работе с трупами, раковыми больными и идиотами. Пациентов он, благодаря своей силе, перетаскивал на верхний этаж особняка, где располагалась лаборатория, настолько легко, будто это были пушинки: перекинув очередного бедолагу через плечо, он поднимался по высоким крутым ступенькам, не проявляя ни малейшего любопытства к происходящему и как будто даже не делая разницы между еще живым пациентом и трупом.
– Садовника укусила гадюка, – сообщила Консуэло профессору Джонсу.
– Когда умрет, принеси его в лабораторию, – распорядился ученый, с трудом ворочая перекошенным после перенесенного удара ртом; ему пришла в голову идея сделать из индейца-садовника мумию индейца-садовника, подрезающего кусты; впоследствии он намеревался поставить это чучело в качестве украшения в саду.
Возраст и последствия кровоизлияния в мозг пробудили в нем художественные наклонности и образное мышление, он стал подумывать, чтобы организовать у себя в доме музей: тематическую экспозицию «Профессии» должны были представлять забальзамированные трупы людей, владевших этими самыми профессиями при жизни.
Впервые за свою молчаливую и безропотную жизнь Консуэло осмелилась ослушаться приказа и поступить так, как сама считала нужным. Призвав на помощь кухарку, она перетащила индейца в свою комнату, находившуюся в сарае на заднем дворе, и уложила на тюфяк. Она была полна решимости спасти его, во-первых, потому, что ей было бы жалко видеть старого знакомого в качестве садовой скульптуры – неодушевленного украшения, созданного по капризу хозяина, явно выжившего из ума; а во-вторых, иногда она сама чувствовала какое-то необъяснимое беспокойство, наблюдая за тем, как эти большие смуглые сильные руки ласково и деликатно касаются растений, гладят их и приводят в порядок. Она промыла ранку водой с мылом, взяла на кухне нож для разделывания кур и сделала в месте укуса два довольно глубоких надреза. После этого она долго отсасывала зараженную ядом кровь, то и дело сплевывая ее в специально подставленную миску; чтобы не отравиться самой, она после каждого плевка прополаскивала рот уксусом. Потом она обернула пострадавшего вымоченными в скипидаре простынями, промыла ему желудок настоем целебных трав, залепила ранку собранной по углам паутиной и разрешила кухарке зажечь свечи у статуй святых, хотя сама не слишком верила в эффективность этого ненаучного метода лечения. Когда укушенный садовник стал мочиться кровью, Консуэло пробралась в кабинет профессора и принесла оттуда «сандаловое солнце» – незаменимое средство при всех воспалениях мочевого пузыря и мочеиспускательного канала; увы, несмотря на все ее старания, нога садовника стала гнить прямо у нее на глазах, а у него самого началась агония. Все страдания индеец переносил мужественно и с достоинством, ни разу не застонав и не пожаловавшись на боль; он даже не позволил себе хотя бы на миг потерять сознание. В какой-то момент Консуэло заметила, что мужчина усилием воли заставляет себя забыть о приближении смерти и более чем благосклонно принимает ее заботы, выражающиеся прежде всего в прикосновениях и растираниях его тела. Его энтузиазм по поводу ласковых касаний рук Консуэло выразился весьма недвусмысленным образом, и та – уже зрелая, но все еще не удосужившаяся потерять девственность – не смогла ответить умирающему мужчине отказом. Когда он слабеющей ладонью взял ее за руку и умоляюще посмотрел в глаза, она поняла, что настал тот миг, когда ей следует на деле подтвердить, что ее не зря нарекли таким именем[6]: ей выпал жребий утешить умирающего в его последние минуты. Кроме того, она вдруг подумала, что за тридцать с лишним лет жизни ей так и не довелось познать любовного наслаждения; впрочем, следовало признать, что особо настойчиво она его и не искала, пребывая в полной уверенности, что это занятие не для простых смертных, а развлекаются таким образом, пожалуй, лишь герои фильмов. В общем, она решила подарить себе это удовольствие и откровенно предложила себя умирающему, рассчитывая, что такая благосклонность с ее стороны поможет ему перейти в лучший мир если не довольным, то по крайней мере удовлетворенным.
Я так хорошо знала мать, что без труда могу представить себе в подробностях, как именно произошла эта любовная история, хотя сама мама никогда не посвящала меня в детали. Нет, она не была чрезмерно стыдливой и обычно отвечала на все мои вопросы предельно откровенно, но как только речь заходила о том индейце, она мгновенно замолкала и погружалась в воспоминания – по всей видимости, едва ли не самые приятные во всей ее жизни. Она сняла хлопчатобумажный халат, нижнюю юбку и льняное белье, затем распустила волосы, заплетенные в косу и уложенные, по неизменному требованию хозяина, на затылке. Эти волосы – пожалуй, главный атрибут ее красоты – рассыпались по плечам, прикрывая, пусть частично, ее наготу. Она аккуратно села на умирающего, стараясь делать все так, чтобы не увеличивать его страдания. Она не слишком хорошо представляла себе, что именно ей нужно делать, по той простой причине, что в данном случае у нее не было никакого опыта. Впрочем, все то, о чем она не знала, было подсказано ей природой, инстинктом и добрыми намерениями. Под смуглой кожей мужчины заиграли напрягшиеся мускулы, и она почувствовал себя так, будто скачет на каком-то огромном и сильном животном. Неразборчиво проговаривая только что придуманные и еще до конца не понятые ею самой слова, вытирая простыней выступивший по всему телу пот, она соскользнула по его телу именно туда, куда было нужно, и стала двигаться ласково и осторожно, как любящая жена, привыкшая заниматься любовью с пожилым мужем. Затем он опрокинул ее на спину и крепко обнял – обнял со всем жаром неминуемо приближающейся смерти; в этот краткий миг их счастья вспышка света, родившаяся между их телами, казалось, разорвала в клочья все тени в самых дальних углах комнаты. Там я и была зачата – там, на смертном одре моего отца.
Тем не менее садовник не умер, к немалому удивлению и даже разочарованию профессора Джонса и ученых-французов из серпентария, которые рассчитывали заполучить труп индейца для своих исследований. Вопреки всякой научной логике он начал выздоравливать, у него упала температура, нормализовалось дыхание и наконец появился аппетит. Консуэло понимала ситуацию так: сама того не сознавая, она нашла чрезвычайно эффективное противоядие от последствий змеиных укусов. Стремясь подтвердить свою догадку, она с нежностью и готовностью отдавалась садовнику всякий раз, когда он того желал. В итоге в один прекрасный день пациент сумел самостоятельно встать на ноги. Прошло совсем немного времени, и он ушел. Она не пыталась удержать его; они постояли, взявшись за руки, минуту-другую, чуть печально поцеловались, а затем она сняла с шеи уже порядком поистершийся шнурок с висевшим на нем золотым самородком: свое единственное сокровище она отдала своему единственному возлюбленному – на память о безумной скачке во весь опор. Он ушел – благодарный и почти выздоровевший. Мама говорила, что он уходил, улыбаясь.
Консуэло не позволила себе дать волю чувствам. Она продолжала работать так, словно ничего не произошло; о том, каким образом ей удалось спасти того, кого уже записали в покойники, она не стала рассказывать никому – даже тогда, когда у нее начались приступы тошноты, головокружения, когда стали слабеть и подкашиваться ноги, когда перед глазами то и дело начинали плясать, затуманивая взгляд, разноцветные круги. Она продолжала молчать и тогда, когда у нее стал расти живот. Со временем даже профессор Джонс обратил внимание на изменение ее фигуры и прописал ей слабительное, пребывая в полной уверенности, что вздутие живота у служанки является следствием каких-то нарушений в работе пищеварительного тракта. Консуэло продолжала хранить молчание и тогда, когда подошел назначенный природой срок произвести на свет младенца. Двенадцать часов она терпела страшную боль, продолжая работать, и лишь когда терпеть эти муки стало уже невозможно, закрылась в своей комнате, готовая не просто родить ребенка, а прожить, прочувствовать все эти мгновения как самые важные в своей жизни. Она причесалась, заплела волосы в тугую косу и подвязала ее новой лентой, затем разделась, вымылась с головы до ног, положила на пол чистую простыню и села над ней на корточки – так, как она видела в книге, описывающей традиции и уклад жизни эскимосов. Вся в поту, зажав во рту скомканную тряпку, чтобы заглушить стоны, она тужилась изо всех сил, стремясь произвести на свет это крохотное создание, так упорно цеплявшееся за нее. Она была уже немолода, и роды шли трудно; к счастью, тяжелая работа: мытье полов на четвереньках, перетаскивание тяжестей вверх-вниз по лестнице и ежедневная многочасовая, порой до полуночи, стирка – все это наполнило мышцы Консуэло редкой для женщины силой. Именно они, эти мускулы, выполнив предписанную им природой работу, и помогли ей родить ребенка. Сначала она увидела, как из ее тела показались две крохотные ножки; они чуть заметно шевельнулись, словно в нерешительности собираясь сделать первые шаги на долгом и трудном жизненном пути. Консуэло глубоко вдохнула и, в последний раз застонав, почувствовала, как в глубине ее тела что-то оборвалось и между ее бедрами проскользнуло нечто большое и уже не совсем принадлежащее ей. Свершившееся потрясло мою мать до глубины души. Да, это была я, обмотанная синей пуповиной, которую она аккуратно сняла с моей шеи, чтобы помочь мне сделать первый вздох и начать самостоятельную жизнь. В этот миг дверь комнаты Консуэло распахнулась и на пороге появилась кухарка, которая заметила долгое отсутствие моей матери и, поняв, что происходит, бросилась к ней на помощь. Она появилась в комнате Консуэло, когда самое трудное было уже позади: я лежала на животе у матери, и между нами еще не была оборвана последняя физически ощутимая связь.
– Плохо дело – девчонка, – сказала нежданная повитуха, перевязав и обрезав пуповину.
– Она родилась ножками вперед – это к счастью, – не в силах говорить громко, одними губами, на которых играла счастливая улыбка, прошептала моя мать.
– Вроде бы здоровенькая. Силенок хоть отбавляй, вон как кричит. Если хочешь, я могу быть ее крестной матерью.
– Вообще-то, я не собиралась крестить ее, – ответила Консуэло, но, увидев, как вспыхнула от возмущения кухарка, решила ее не обижать. – А впрочем, почему бы нет? Немного святой воды – что в этом плохого? В конце концов, может, это пойдет ей на пользу. Я назову ее Евой, пусть это придаст ей настоящую жажду жизни.
– А какая у нее фамилия?
– Никакой, фамилия – это ерунда.
– Ничего подобного, у каждого человека есть фамилия. Только собаки могут жить с одним лишь именем.
– Ее отец принадлежал к племени, которое называет себя детьми луны. Что ж, пусть мою дочь будут звать Ева Луна. Дай мне ее подержать, я хочу почувствовать ее в своих руках, хочу убедиться, что она цела и здорова.
Консуэло даже не пыталась встать из лужи околоплодной жидкости, да и не смогла бы этого сделать: у нее не осталось сил и все кости в ее теле повисли, словно тряпичные; и все же, превозмогая боль и усталость, она взяла меня на руки и стала внимательно осматривать со всех сторон. Она со страхом искала на моем теле какую-нибудь отметину, какой-то болезненный знак того, что вместе с семенем отца мне передалась частица змеиного яда. Не обнаружив никаких внешних отклонений, она облегченно вздохнула.
У меня не раздвоенный язык, и на мне нет змеиной чешуи, по крайней мере снаружи. По мере того как я росла, становилось понятно, что несколько необычные обстоятельства моего зачатия дали скорее положительный эффект: получив частичку змеиного яда в свою кровь, я обрела на редкость крепкое здоровье, а также дерзость и упрямство, которые стали проявляться в моем характере с самого раннего детства и благодаря которым я все же сумела переломить судьбу и выбраться из жизни, полной унижений, казалось бы уготованной мне от рождения. Сильная кровь досталась мне, по всей видимости, в наследство от отца. Только очень сильный человек мог в течение стольких дней сопротивляться попавшему в организм смертельному яду и по ходу дела еще доставлять удовольствие ухаживавшей за ним женщине. Всем остальным в своей жизни я обязана матери. В четыре года я подхватила какую-то заразную болезнь – одну из тех, после которых все тело остается покрыто похожими на кратеры язвами. Мама спасла меня от неминуемого уродства, связав мне руки, чтобы я не чесалась. Она изо дня в день смазывала все мое тело бараньим жиром и не выпускала из темной комнаты на солнечный свет почти полгода – ровным счетом сто восемьдесят дней. Не привыкшая терять время даром, она воспользовалась моим заключением, чтобы вывести мне мелких глистов тыквенным отваром, а здоровенного солитера – корнем папоротника. Болезнь отступила, и с тех пор я росла веселой и здоровой. На коже у меня не осталось никаких шрамов, нет на мне ни пятен, ни болячек и по сей день, если не считать следов нескольких погашенных о меня сигар. Надеюсь и до старости дожить без единой морщины, потому что благотворное воздействие бараньего жира сказывается на коже в течение многих лет.
Моя мать была человеком молчаливым, она могла слиться с узором на ковре, ее можно было не заметить среди мебели, она старалась никогда и нигде не привлекать к себе внимания, скорее наоборот, осознанно или бессознательно она делала все, чтобы окружающие забыли о ее присутствии; тем не менее, оставшись наедине со мной в нашей комнате, она просто преображалась. Рассказывала мне о своем прошлом или начинала сочинять сказки. С первыми ее словами комната наполнялась волшебным светом, стены словно раздвигались и исчезали, уступая место потрясающим пейзажам, роскошным дворцам с несметными сокровищами и дальним странам – придуманным ею или же таким, о которых она читала в книгах хозяина; мама бросала к моим ногам все богатства Востока, доставала с неба луну, уменьшала меня до размеров муравья, чтобы я еще ребенком, практически не покидавшим своей комнаты, могла почувствовать все величие и бесконечность Вселенной; она дарила мне крылья, чтобы я могла обозреть землю с небес; она наделяла меня рыбьим хвостом и плавниками, чтобы я познала морские глубины. Стоило ей заговорить, и окружающий мир наполнялся множеством взявшихся словно ниоткуда людей; многие из них стали для меня такими привычными спутниками жизни, что я и сегодня, спустя много лет, могу вспомнить, как они были одеты, могу воспроизвести интонации их голосов. Мама сохранила в целости и сохранности все воспоминания о детстве, проведенном в затерянной среди джунглей миссии, не забыла ни одну из историй о том, что происходило с людьми и целыми народами в прошлом, и, уж конечно, прекрасно помнила то, что было украдкой прочитано ею в книгах хозяина. Свои сны, мечты и воспоминания она превращала в строительный материал, из которого день за днем возводила для меня мой собственный мир. Слова – они ничьи, за них платить не нужно, говорила она. Это было то немногое, что доставалось ей в жизни бесплатно. Пользуясь словами как своей собственностью, она без счету дарила их мне. Она сумела вложить мне в голову правильные представления об окружающей реальности: на самом деле реальность гораздо богаче, чем мы ее себе представляем, она не только то, что лежит на поверхности, что можно воспринять обычными органами чувств. У нашего мира есть еще одно – магическое – измерение, а раз так, то, если тебе хочется, ты имеешь полное право приукрасить какую-то часть этого мира, что-то в нем изменить или преувеличить, – в общем, делай что хочешь, лишь бы долгий поход по жизненному пути не был скучным. Придуманные мамой и созванные ею со всех концов воображаемого мира в ее сказки персонажи остались для меня единственными яркими и хорошо сохранившимися воспоминаниями о первых годах жизни. Все остальное стерлось, словно покрытое дымкой: в моей памяти перемешались служанки и горничные, ученый старик, восседающий на выписанном из Англии кресле с велосипедными колесами, и бесконечная череда сменяющих друг друга пациентов и трупов, которых вне зависимости от принадлежности к царству мертвых или живых доктор продолжал принимать, несмотря на обрушившуюся на него болезнь. Детей профессор Джонс не то чтобы не любил, они просто отвлекали его, не позволяя сосредоточиться на размышлениях и экспериментах. Впрочем, к тому времени, когда я научилась ходить, он уже потерял былую наблюдательность и остроту мысли и потому, натыкаясь на меня где-нибудь в коридоре или гостиной, не выражал по этому поводу никакого неудовольствия. По всей видимости, он зачастую просто не замечал меня. Я его немного побаивалась и никак не могла понять: профессор ли делает забальзамированные мумии, или же он сам – их порождение. Мне казалось, что и полуживой старик, и отжившие свое, но упорно сохраняемые в презентабельном виде мумии сделаны из одного и того же куска пергамента; и все же присутствие старика в доме не омрачало мою жизнь и не слишком ограничивало мою свободу. В конце концов, мы существовали в разных пространствах: моей территорией были внутренние дворики, кухня, кладовые, комнаты прислуги и сад; когда же мне приходилось сопровождать маму в парадную часть дома, я старалась производить как можно меньше шума и по возможности не мозолить глаза профессору. Полагаю, по большей части он просто принимал меня за продолжение тени моей матери. Каждое помещение в этом огромном доме пахло по-своему, и я бы, наверное, смогла сориентироваться в особняке по запаху даже в полной темноте или с закрытыми глазами; запахи еды, одежды, угля, лекарств, книг и сырости – все это смешивалось с миром персонажей маминых сказок, делая мое детство насыщенным и разнообразным.
Меня воспитывали в соответствии с теорией, согласно которой досуг и отдых являются причиной того, что человек начинает предаваться всем возможным порокам: эту идею маме внушили в монастыре Сестер Милосердия, а дальнейшее подкрепление она нашла у доктора, установившего в доме деспотическую дисциплину. Игрушек в обычном понимании этого слова у меня не было. На самом же деле все, что окружало меня в этом доме, я использовала для игр по своему усмотрению. Свободного времени в течение дня у меня тоже не было, сидеть сложа руки хотя бы какое-то время считалось у нас в доме постыдным. Я вместе с мамой драила дощатые полы, развешивала выстиранное белье на просушку, собирала в огороде зелень и овощи, а в час сиесты пыталась шить и вышивать. При этом я не помню, чтобы все эти заботы казались мне чем-то утомительным и уж тем более невыносимым. Для меня это было вроде игры в кукольный домик, с той лишь разницей, что дом у меня был большой и самый настоящий, а не игрушечный. Мрачноватые научные эксперименты меня также не слишком беспокоили: мама сумела втолковать мне, что битье пациента дубиной по голове и выставление человека на съедение комарам (к счастью, все это бывало не так уж и часто) являются не свидетельствами жестокости и безумия хозяина, а, напротив, представляют собой новейшие, особо эффективные методы лечения, разработанные на основе последних строго научных исследований. С мумиями она обращалась спокойно, уверенно и даже как-то заботливо и приветливо, словно те приходились ей кем-то вроде дальних родственников, неожиданно нагрянувших в гости; таким отношением к забальзамированным трупам мама на корню пресекла все мои невольные попытки находить в необычном соседстве нечто страшное; кроме того, она постоянно следила, чтобы другие слуги и рабочие не пугали меня и не вели при мне разговоров на похоронно-загробные темы. Наверняка она следила и за тем, чтобы я держалась подальше от лаборатории… если вспомнить, то я действительно практически и не видела эти несчастные мумии: я просто знала, что они находятся где-то там, по ту сторону двери. Понимаешь, Ева, они ведь такие хрупкие и беззащитные, ты лучше не входи в ту комнату, а то заденешь что-нибудь, пусть даже случайно, и профессор страшно разозлится, говорила она мне. Чтобы еще больше успокоить меня, она придумала каждой мумии имя и со временем превратила всех их в сказочные персонажи, населявшие наш с нею мир. Они были для меня кем-то вроде домовых или волшебников.
На улицу мы с мамой выходили не часто. Один из таких редких выходов мне запомнился особенно хорошо: вся прислуга, работавшая в особняке, решила принять участие в организованной епископом процессии и коллективной молитве о ниспослании дождя. В тот день молиться и участвовать в процессии были готовы даже атеисты, это было не столько религиозным действием, сколько общественно значимым событием, объединившим весь народ. К тому времени, как говорят, страшная засуха продолжалась уже три года, ни единой капли дождя не упало с неба на пересохшую, растрескавшуюся землю. Гибли растения, умирали, уткнувшись мордами в сухую пыль, животные, по всем дорогам, ведущим из равнинной части страны к побережью, брели люди, готовые продать себя в рабство в обмен на воду. Перед лицом катастрофы общенационального масштаба епископ постановил вынести из собора статую Иисуса Назарянина и обойти с ней город, вознося к Небесам молитву о смягчении ниспосланной стране кары; это была последняя надежда, и в процессии приняли участие бедные и богатые, молодые и старые, верующие и атеисты. Варвары! Дикари! Невежественные индейцы, дремучие негры! – в ярости восклицал профессор Джонс, узнав, куда мы собираемся; впрочем, даже его авторитета не хватило, чтобы воспрепятствовать прислуге участвовать в общей процессии. Огромная толпа людей в самых лучших своих одеждах двинулась вслед за статуей Назарянина от соборной площади по главному проспекту города; против ожидания мероприятие завершилось гораздо быстрее намеченного: не успела колонна дойти до здания, где размещался офис водопроводной компании, ответственной за снабжение населения питьевой водой, как небеса разверзлись и на город обрушился ливень невиданной силы. Не прошло и двух суток, как город был затоплен и превратился в подобие озера; никакая канализация, никакие сточные канавы не могли справиться с такими потоками воды; под водой скрылись дороги, дома подтапливались один за другим; за городом вышедшие из берегов реки сносили крестьянские хижины и даже усадьбы, а в одном прибрежном поселке с неба на землю вместе с дождем обрушились тысячи морских рыб. Чудо, это же чудо! – не переставая восклицал епископ. Наш многоголосый хор вторил ему. Ну конечно, мы, в отличие от профессора Джонса, не знали, что процессия была назначена на тот день, когда метеорологическая служба твердо пообещала тайфуны и проливные дожди над всем Карибским регионом. Полупарализованный профессор тщетно взывал к нашему разуму из своей инвалидной коляски. Безграмотные невежды! Неучи! Рабы суеверий! – уже по инерции продолжал повторять почтенный доктор. Свершившееся чудо сделало то, чего не могли добиться ни братья-миссионеры, ни сестры-монахини: моя мать приняла Бога, почувствовала свою близость с Ним; случившееся помогло ей образно представить Его сидящим на небесном троне и негромко, чуть снисходительно посмеивающимся над человечеством. Она поняла, что на самом деле Бог очень отличается от того кроткого и даже робкого дедушки, которым Его обычно изображают в религиозных книгах. Продемонстрировав людям, что у Него есть чувство юмора, Бог заодно дал им понять: пытаться наперед предугадать, что Он задумал, высчитать каким-то образом, что входит в Его планы, – занятие бессмысленное и бесполезное. Всякий раз, вспоминая тот пролившийся на нас чудесным образом ливень, мы просто умирали от смеха.