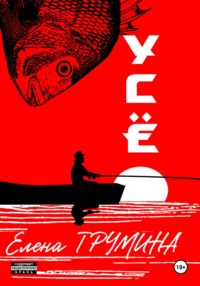Полная версия
Мизеус
– Про гробы и устрицы я понял. А что за хорошие новости?
– В один прекрасный день мы все умрем.
Появился парнишка-официант с бутылкой чешской вишневицы.
Анна наблюдала, как Григорий твердой рукой наполняет бокал, и вид этой крепкой руки на мгновение пробудил в ней воспоминание о тех приятных ощущениях, которые эта мужская рука когда-то дарила ей.
Может, вернуть его? Анна представила, что было бы, если бы Мельников стал ее мужем. Уж наверное, поговорил бы с Максом и вправил ему мозги. Гриша был мужик что надо, с характером.
Надо сказать, что прежнее замужество Анны безоблачным не было. Смерть мужа хотя и явилась для нее страшным ударом, но, когда прошло время, она с горьким и стыдливым удивлением констатировала, что стала гораздо счастливее, когда перестала зависеть от его упрямого и придирчивого характера. Однако что-то в ней надломилось. Появились панические атаки. Месяцы активности сменялись периодами упадка сил и тревожного ожидания грядущих жизненных катастроф. Но вот сын встал на ноги, приступы паники стали редкостью, и Анна расцвела. Воздух провинциальной безмятежности наполнил тренированные пением и духовыми легкие, во взгляде Анны заиграло выражение насмешливого пренебрежения суетой, в словах появилась снисходительная веселость, можно сказать, в жизни учительницы музыки наступила пора умиротворения.
В Григории Анна разглядела патриархальные черты покойного мужа. Кроме того, Мельников стал назойлив, его было много. Он строчил сообщения, встречал с работы, а эти его бесконечные расспросы по вечерам. Ей хватало своего страха перед жизнью, у нее не было сил переносить рядом чужую тревогу. Она была уверена, что вот-вот привяжется к Мельникову, а может быть даже и влюбится в него, как это бывало раза два или три после близости с мужчиной, который ей нравился. А когда этого не случилось, испытала облегчение.
Она решила, что мужчины остались в прошлом: с любовниками не везло, замуж повторно она опасалась, да и вообще… что еще она не знает о Грише? Он даже не говорит, сколько ему лет. К тому же она купила волынку (ее пригасили на свадьбу, она будет играть), не всякий мужчина оценит утробные звуки Вселенной до завтрака! А в перспективе гусли.... Да и квартира крошечная для двоих, одну комнату занимает кровать, вторую – инструмент, она тут все устроила под себя, столько сил вложила, и денег, снова куда-то переезжать, все заново обустраивать? Труда жалко, жалко дорогущую итальянскую плитку, японский встроенный шкаф, а кухня каких стоила нервов.
Анна вздохнула.
– Присядь-ка. Разговор есть.
Григорий уселся напротив, глядя на нее усталым и нежным взглядом.
– Мой сын ломает себе жизнь. Ты может ее видел. Брюнетка такая кудрявая. Модель. Из Кишинева. Актрисой стать собирается. У нее ребенок. В общем, все понятно. Он уже перевез ее к себе. Нет, ради бога, но жениться! Ему двадцать пять. Надо его образумить. Но как?
– Ах, вот что, – Григорий разочарованно откинулся на спинку стула.
– Помоги, а? Что ты молчишь?
– Не знал, что ты – одна из таких мамаш.
– Не строй из себя дурака! Ты прекрасно знаешь, как это бывает с порядочными людьми. Юношеские иллюзии, и все, жизнь кобыле под хвост!
– Перестань. Ну что ты? Такая милая девушка.
Анна поморщилась. Теперь она с неприязнью смотрела на голубоглазую физиономию Мельникова, на это примирительное, все понимающее и все прощающее выражение, этакий благовоспитанный провидец, великодушный святоша.
– Макс – парень не промах. Ты видела ее ноги? Как у… – Григорий осекся под яростным взглядом Анны. – Что ты хочешь, чтобы я сделал? Они взрослые люди. Что я могу?
Анна фыркнула. Чудовищно! Вот оно как… Помыкать слабыми женщинами – это они могут, а как доходит до дела, так «а что я могу?!»
– Фасоль пересолена.
– В самом деле?
– Чудовищно пересолена. Нет, это невозможно есть!
Анна бросила вилку.
– Прости, что лишил тебя удовольствия насладиться эгоизмом материнства.
– Ты потолстел.
Мельников поднялся и, не ответив, удалился на кухню.
Звонок мобильного отвлек Анну от обиды на весь мир.
– Ты где? – спросил Макс.
– Где, где. Собираюсь вот.
– Хорошо, что я тебя застал. Помнишь, нашу «Красную шапочку»?
– Ну?
Еще бы не помнила. Пол ночи с Павлом клеили эту волчью морду для школьного спектакля.
– Он у тебя слишком страшный, – говорила Анна. – Посмотри на зубы. Дети обделаются.
– Это волк, а не Русалочка.
– Это сказочный волк.
– Это мифология. Пасть должна пробуждать инстинкт самосохранения. Иначе в чем смысл сказки?
И эту самую пасть, рука не поднялась выкинуть, глаза навыкате, зубы, как у курящего крокодила, Макс просил занести – они собирались у кого-то на дне рождения пробудить инстинкт самосохранения.
Дома Анна смахнула с волка пыль. В раздумьях поднесла поочередно к носу несколько флаконов духов. Выбрала Шанель и побрызгала чудище.
Перед дверью Макса Анна натянула картонную голову на себя и стояла, не шевелясь, довольная шуткой.
– Проходи, – как ни в чем не бывало сказал Макс, отворив дверь.
Разве удивишь подобной выходкой режиссера?
– Здравствуй, дружочек, – бросила Анна Ольге, быстро прошла на кухню и прямая села за стол. На столе стояла бутылка вина.
– Как дела? – спросил Макс.
– Ужасно.
– Что случилось?
– В нашем доме теперь продают гробы.
– Ого. Неприятно, но не смертельно, – он зачем-то взял руку Ольги в свою.
– Ты так думаешь? Утром – гробы. Днем – гробы. Вечером, как ты понимаешь, снова гробы. Перед глазами одни гробы. И что это значит? Раньше там были велосипеды. Я смотрела и думала, жизнь прекрасна, жизнь – это бесконечная дорога, радость, движение вперед.
Ольга и Макс переглянулись. Макс едва заметно пожал плечами.
– Хочешь вина? Или, может, трех поросят?
– Ладно. Давайте выкладывайте ваши хорошие новости.
Анна сняла волчью голову.
– Барабанная дробь! Мы на три месяца бум-бум-бум отправляемся… на гастроли!
– Что три месяца? Не поняла…
– Гастроли, мам.
Это и есть хорошие новости?!
Раздуваясь от гордости, Макс размахивал какой-то глянцевой программкой.
– Ты можешь вообразить? Мою пьесу увидит добрая половина Европы!
Выдохнув, Анна поднялась и шутливо взъерошила сыну волосы.
Подумать только. Гастроли.
– Ну и ну! Поздравляю! Что ты там, жмешься, Оленька? Это надо отметить. Открывайте ваше вино. Будем праздновать.
Надо же, какие хорошие новости.
Но странное дело – Анна не почувствовала большой радости оттого, что они едут на какие-то там умопомрачительные гастроли. Она неожиданно расстроилась, упала духом, все оказалось не тем, чем казалось. К черту гастроли. При чем тут вообще гастроли. Из волчьей головы она увидела совсем не то, что ожидала. Анна вдруг прозрела. Пока она сидела, напялив на себя дурацкий колпак, в картонные щели била правда, правда священная, древняя, могущественная правда. Девушка милая. А сама она дрянь. Из волчьей головы Анне стал виден этот ясный, животворящий свет любви, а она, дура психованная, и позабыла, как это бывает. Ей захотелось, чтобы хорошие новости оказались вовсе не о гастролях.
– Как жаль, что Машеньки нет, – сказала она Ольге.
Нашла в телефоне присланные сыном фотографии… а там… там тебе все: и щечки, и носики, и кудряшки, кто бы мог подумать, почти копия Макс в детстве.
– Маша на море, с бабушкой, – хмуро ответила Ольга.
– Море – это чудесно…
У Анны встал в горле ком. Она подняла глаза к потолку, они вдруг наполнились непрошеными слезами, вскочила, «я же руки не помыла!», кинулась в ванную, и там включила воду и с отвращением взглянула на себя в зеркало. Они смотрели на нее, как… Анна не могла придумать подходящего сравнения… как на чужую, как они сразу отдалились, каким отчужденным стал Макс, а она ведь ничего не сделала. Или сделала? Но каким он стал снисходительно-враждебным, с какой легкостью он готов отречься от своей матери, она это почувствовала тогда.
– Господи, во что я превратилась? – горестно покачала она головой, глядя на розовые носочки на полотенцесушителе. – Что со мной стало? Что со мной?
Она вымыла руки, снова взглянула в зеркало, несчастное выражение собственного лица насмешило ее, и она усмехнулась. За стол она вернулась как ни в чем не бывало.
Ничего, ничего, еще немного вина, подарю им нормальные бокалы, страшно смотреть из чего пьет молодежь. Все поправимо.
Макс напустил на себя непринужденный вид. Обиженная ее холодностью Оля без притворства дуется. Щеки эти надутые полудетские смешные. Анна хмыкнула. Это из-за них Макс потерял голову, он ей сам признался, из-за щек.
Она прислушалась. У них было непривычно тихо. В их квартиру не проникали ни шум улицы, ни хлопанье дверей, только один звук привлек внимание Анны – тик-тук, тик-тук, тик-тук. Анна огляделась – это на подоконнике пластмассовый цветок качал двумя листками, вверх-вниз. Тик-так, тик-так, тик-так.
Она встряхнулась.
– Простите мне мое дурацкое настроение, – сказала она весело. – У меня последнее время бывает. Наверное, климакс.
Теперь она само очарование. Пара смешных историй из детства Макса, пара анекдотов из собственной жизни…
– Ты помнишь, Макс, как я потеряла день и собралась встречать Новый год тридцатого декабря?!
Кое-что заимствованное у Кветы и остроумно выданное за свое, она пустила в ход все свое обаяние, и через каких-то полчаса наслаждалась всеобщим весельем. Милая девушка, Гриша прав. Подожди, девочка! Ты еще не слышала их коронной песни! Чертовски жаль, что нет флейты.
И Анна запела, негромким, но густым, полным и очень приятным голосом, с насмешливым озорством глядя на сына.
– Walked all day till my feet were tired
I was low, I just couldn't get hired …
Макс включился, как магнитофон, десятки раз они исполняли этот хит «The Miracles».
– So I sat in a grocery store…
Как-то спели сто лет назад в шутку, когда шестнадцатилетний Макс устроился в Макдональдс на каникулы, и года на три прилипла мелодия к семейному очагу, став чуть ли не домашним гимном.
I got a job
Sha na na na,
I got a job
Sha na na na…
И на два голоса, сопровождая выступление жестами и комичными гримасами, до совершенства обкатанными в гостях, мать и сын исполнили номер до конца.
Анна радовалась за Макса, эту девочку она в себя влюбит, теперь ей хотелось любви Ольги, у них будет все хорошо, жизнь снова благосклонна, с улыбкой думала Анна, блаженствуя.
Пока дети росли, Анне все казалось, какие они у других умные, талантливые, слушала подруг и восхищалась: «вот Танька у Юльки молодец, вот Анита у Элишки умница». А Макс, ей казалось, растет обыкновенным, не дурак и славно, по счастью, самостоятельным всегда был, постоянно чем-то увлекался, копошился с какими-то затеями, клеил, собирал непонятные мальчишеские штуки, равнодушный к музыке, вообще к искусству, вот только та роль волка в школьном спектакле и все; учился плохо, делал все в последний момент, сидя на унитазе, врал по телефону, что едет, через пять минут будет. Не было у Анны материнской обольщенности никогда, а потом конкурс какой-то и вдруг – драматург. Повалили какие-то помешанные, на него, сказали, одна надежда, современная чешская драматургия молится на него. Чудеса. И она, Анна, там была в его пьесе, и отец, царствие ему небесное, и такие моменты, что удивительно, как подобные мелочи западают в детскую память, приобретая вселенскую универсальность, и много такого стыдного, о чем бы она, как мать, предпочла не знать. А потом, года два-три всего прошло, оказалось, в соседнем Брно есть хороший театр, и Макс поставил спектакль, где все такие трогательно юные, красивые, до комка в горле талантливые. И да, она всплакнула на этом спектакле, освистанном позже феминистками и защитниками чьих-то там прав, но, так сказал сын, это к лучшему, это значит, что пьеса действительно заметная.
Стоя рядом с такси, Макс вышел проводить мать и, кажется, выглядел очень довольным, Анна не без лукавства пожаловалась:
– У меня совершенно нет опыта общения с невестами. Совершенно!
– Ты отлично справилась, – успокоил сын.
– Про новый год я зря рассказала, да? Оля не подумает, что я ку-ку?
– Зря! – он чмокнул мать в щеку. – Дело в том, что я давно присвоил себе эту историю и рассказываю ее от своего имени.
– Ты балбес. Я сто раз подумаю, прежде чем что-нибудь расскажу тебе, ты все тащишь в свои пьесы с жадностью щенка.
Анна села в машину, шутливо грозя сыну пальцем, с легким сердцем и грустными мыслями. Понимает ли он, какая это ответственность – женщина с ребенком? Он такой эгоист.
И кран капал у них на кухне.
Она вырастила его, обманывая себя, что нет существа ближе и понятнее, но в сущности, что она знала о нем, о принадлежащем только себе одному? Ничего. Почти ничего, спасительное почти, пусть останется слабая надежда, что он не просто плоть от плоти.
Юля
Следующим вечером в магазинчике Юлии, он назывался «Товары для здоровья», Анна меланхолично раскачивалась в бамбуковом кресле-качалке, свесившись набок.
– Девица что надо, – говорила она, глядя перед собой. – Надеюсь, Макс не станет затягивать со свадьбой.
«Боби!» «Боби!» «Ко мне!» На улице выгуливали джек-рассела.
– Я рада, что вы поладили. А у Мишки, представляешь, оказались супер способности к языкам. Они его записали в специальную школу. Там его протестировали и обалдели. С осени пойдет. Две училки сцепились, так хотели его в свой класс.
У Юли было два внука, Мишка и Сашка, шести и четырех лет. Один гений, второй просто вундеркинд. Рассказывать о них она могла вдохновенными часами. Слушая об их поразительной смышлености, Анна открыла в телефоне фотографию Маши.
– А вот моя внученька, – похвасталась она.
Юля посмотрела в экран.
– Нос твой.
И снова запела о своем Мишке. Необыкновенный, в трамвае все свернули шеи, когда он вдруг затянул рождественский хорал, думали Паваротти.
Анна отправила фото Маши питерской школьной подруге со словами «моя приемная внученька».
«Боби!» «Боби!»
Когда эта дамочка уже оставит свою собаку в покое?
Юлина лавка пользовалась популярностью и приносила хотя и небольшой, но стабильный доход. Дело было поставлено хорошо. Изобилие разных полезностей и продуктов с наклейками «био», «органик» и «веган» создавали почти религиозную атмосферу. В магазине продавались эфирные масла, пуэры, травы, простыни из бамбука, одеяла из эвкалипта, ионизаторы воздуха, кефирные закваски, соляные лампы, кварцевые шары, эбонитовые массажеры и многое другое. Только зайдя внутрь еще ничего не купив, вы могли почувствовать себя здоровее, ощутить непреодолимое желание закаляться, бегать трусцой, косить траву и петь мантры.
У Юлии был увлеченный и убедительный тембр голоса. Что бы она не советовала, ей безоговорочно верили. Рыжиковое масло? Само собой! Кукурузные рыльца? Да я без них жить не могу! Шунгит? Гречишная подушка? О дары богов! О радость жизни! Несите, я все возьму!
Ровно в восемь, в час закрытия, звякнул колокольчик, и канарейка в клетке запела, приветствуя завсегдатаев: вегетарианку Каролину с сыном Мартином. На Каролине зеленые индийские шаровары, лодыжки у нее вечно голые, на каждом пальце по два кольца. Мужа у нее нет, любовника тоже, но она переписывалась с программистом из Дели, регулярно присылавшим ей оригинальные рецепты вегетарианских блюд: кичари, сабуданы кичди, кхира, супа масурдала, ладду.
Мартин также был вегетарианцем, по крайней мере, так думала мать. Если кто-то пытался ее переубедить, утверждая, что ребенку, в особенности подростку, мясо необходимо, она в ответ только удивленно пожимала плечами:
– А что вы думаете, я его принуждаю? Я ему объяснила, и Мартин все понял. Он вашего мяса терпеть не может. Сами спросите, если хотите. Эй, малыш, мясо хочешь?
При слове «мясо» Каролина кривилась, будто ее тошнило при одном упоминании этой гадости. И когда мальчишка отрицательно мотал головой, добавляла не без самодовольства:
– Я же знаю своего сына.
Мартин не обманывал – мяса он не хотел, час назад он проглотил десяток телячьих котлет у бабушки Марии, жившей этажом выше, которая была готова затолкать во внука целую корову, лишь бы он вырос «нормальным мужиком». А незадолго до котлет умял печеную рульку с базиликом. До рульки была телячья нога, перед ногой бифштекс с кровью и бараний бок.
Мальчишка уселся за столик, пока мать наполняла корзину, обреченно глядя перед собой. За все съеденное его мучило чувство вины, которое тяжело и болезненно трепыхалось под сердцем, пока он был сыт, и исчезало, когда он был голоден.
– Мартин, как дела? – спросила Анна.
– Нормально.
– Нормально – это как?
– Ну так, это, нормально.
Мартин безразлично пожал плечами. В присутствии матери он обычно тускнел и деревенел. Анна насыпала ему горсть мятных конфет. Он потянулся, рукав поплыл вверх.
– А что это у тебя за волдыри на руке? Утром не было.
Парень смутился. Спрятал руку с конфетами и волдырями в брючный карман, отвернулся в другую сторону.
Расплатившись, Каролина вальяжным жестом попросила сына со стула и села на его место.
– Вы пойдете на собрание? Мы через час собираемся по поводу этого безобразия. Я не могу каждый день ходить мимо этой мерзости. У меня сын растет.
– Мой уже вырос, так что я могу, – возразила Анна.
– Хозяин, как вы выражаетесь, мерзости – очень приятный мужчина, – сказала Юлия, улыбаясь Каролине. – Ему двадцать восемь и он холостой.
Юлия все про всех знает.
– Вообще да, симпатичный, – вздохнула Каролина.
Анна цепким взглядом охватила ее подтянутую, спортивную фигуру, крепкие ноги, упругий зад, гибкую спину инструктора по йоге и неожиданно почувствовала укол ревности.
– Симпатичный,– кивнула она, – но слегка ку-ку!
Гроб в горошек за двенадцать тысяч!
Юля вдруг рассмеялась, то ли ее насмешили выпученные глаза Каролины, то ли выражение «ку-ку».
Едва магазин опустел, Юлия посмотрела на часы и поставила на круглый столик две чашки.
– Короче, они уезжают на гастроли, – продолжила Анна, словно и не было никакой Каролины.
– Это прекрасно, когда у детей все хорошо. У них есть чайничек?
– Откуда. Они заваривают эти помои на ниточке. Зачем им чайник. У них вообще нет нормальной посуды.
– Жаль. Пришли обалденные китайские из редкой коричневой глины. Смотри.
В то мгновение, когда Юлия поставила перед Анной новый китайский чайник, у Анны вдруг внутри потемнело, словно случилось затмение радости. Тоска нахлынула, зазвучала, то вскакивая, то опадая, Бизе не иначе, и Анна делала вид, что рассматривает глазурь, но на деле была поглощена модулирующим аккордом своего настроения.
– Очень красивый, – сказала она, тускло глядя на Юлькин зад, туго обтянутый клетчатой юбкой. Подруга как раз повернулась, чтобы вернуть чайник на полку.
Если я умру в эту секунду, подумалось Анне, то этот широкий зад будет последним, что я видела в жизни.
Сколько они уже дружат? Невозможно, как летит время.
На куновицкую соседку Юлю Анна наложила лапу лет двадцать назад, едва ступила на чешскую землю. На родине они подружились бы вряд ли. Юлия была простая русская баба, сохранившая привязанность к протянутым от окна к дереву бельевым веревкам, конопатая, широкая лицом и задом, с рыжеватыми подкрашенными хной волосами, любовно упакованными на ночь в пластмассовые бигуди. У нее было отечное добродушное лицо с пухлыми губками и ласковым взглядом, легкий и мягкий нрав. Удивление заменяло ей злость. Анна потянулась к Юлькиному простодушию и еще смешливости, никто так заливисто не хохотал над ее незатейливыми шутками. Как охотно чехи заводили с ней беседы, и как быстро эта пэтэушница выучилась языку, поразило Анну. Сама Юля считала подругу жутким снобом, обижалась, когда та пренебрегала ее мнением относительно кино или книг, подаренные Анне романы, а ведь Юля перед покупкой прилежно читала отзывы, валялись непрочитанными, и она скоро перестала дарить их. Неприспособленность Анны первое время досаждала ей, Анькина легкомысленность вызывала веселое недоумение, но скоро Юля привыкла к роли старшей подруги, а Анна всегда находила для нее умные, правильные слова, в которых она, как оказалось, нуждалась. И действительно, малопонятная Анна странным образом дополняла ее, заполняя жизнь смешными цитатами из советского кино и привнося в повседневность беззаботность и любовь к удовольствиям. Когда же Анна сыграла на аккордеоне «Шарф голубой» и чистым открытым голосом спела «…ма-атушка ро-одная, как же мне бы-ыть, мне эту ба-арышню не разлюби-ить. В сердце огне-ем разгорается стра-асть, барышню видно приде-ется укра-асть», Юлькино сердце распахнулось настежь. В нем зародилось наполовину детское восторженное, а наполовину вполне витальное, томно-интимное чувство глубокой, нежной привязанности.
Анна с ее бульдожьей дружеской хваткой вытеснила всех прочих ее приятельниц, так что, когда Юля узнала о намерении подруги переехать в Бржецлав, у нее не возникло сомнений, что они сделают это вместе.
Только в Бржецлаве уже сколько, прикидывала Анна. Пять? Пять лет. А кажется, только недавно стены в магазине красили, столик этот с барахолки тащили, она еле вытащила занозу. Как летит время… ужас…
А Юльке все нипочем. Она старше лет на десять и даже кремом от морщин не пользуется. Летит и летит, что поделаешь, скажет она, на то оно и время, чтобы лететь. Чистосердечное смирение перед неизбежным – ее конек. Крутит банки, балует внуков. Святая она что ли? Пузо растет, как на дрожжах, а она лишь хлоп по нему ладонями – улыбка от уха до уха. Шеи уже не видно.
– Время стало лететь слишком быстро, – сказала Анна со вздохом. – У времени слишком высокая скорость. Мне кажется, оно превышает. Мне кажется, там нужна инспекция. Кто-нибудь вообще следит за этим? Мне кажется, оно распоясалось и летит, превышая лимит. Там вообще есть спидометр? Нужен спидометр.
Подобные этому бессмысленные Анькины монологи Юля часто пропускала мимо ушей. Анна проговорила это шутя, но видя, что подруга не отвечает, взяла ее за руку:
– У тебя было когда-нибудь чувство, что тебя использовали? Обманули? Облапошили?
Юля пожала плечами.
– Сто раз. Но в последнее время я стала страшно проницательная. Читаю детектив и уже знаю, кто там убийца!
Анна хотела объяснить, что она имела в виду нечто менее приземленное, хотя и более банальное – обманувшую ее жизнь, человеческую природу, но знала, что Юлька всего этого не поймет. Она никогда не понимала, когда речь заходила об абстрактных понятиях, таких как жизнь, смысл, судьба, и что в этом расчетливом непонимании и таился ключ к безмятежности. Но тут Юля вдруг добавила:
– Мы всего лишь люди.
Но эта погремушка, встряхиваемая обычно, чтобы заткнуть рот подруге, Анну на этот раз не успокоила. Анна несколько секунд сдерживала слезы, хлопая ресницами, все это с легким трагикомичным пафосом, потом не справилась – все-таки всплакнула, достав носовой платок, шумно и театрально высморкалась.
– Тебе пора проверить гормоны, – Юлия погладила подругу по голове. – Я тебе такой чаек сейчас заварю. Все тревоги долой.
Засуетилась. А у самой никаких тревог. Вся ее жизнь – копилка самоуважения. Хорошие отношения с соседями – дзынь в копилочку, красивая дочь – дзынь, два внука— дзынь, дзынь, хорошая выручка – дзынь, честный налогоплательщик – дзынь, прочла Дину Рубину – дзынь, дзынь, дзынь, приласкала Аньку – дзынь. Анна так не умеет, не умеет гордиться. Даже тем, что Макс такой талантливый режиссер. Это же он талантлив, а при чем здесь она? Юлька гордится дважды. Первый раз, когда сама испытывает гордость за правильно проживаемую жизнь, второй раз, рассказывая об этом другим. Вот и сейчас – сует новый чайник, раздулась от важности и радуется даже формальному одобрению.
– Мне стыдно. Они такие хорошие. Такие светлые. Такие молодые. А я? Что со мной? Что со мной стало? Во всем я вижу плохое. Мне так стыдно. Я еще Грише жаловалась. Ужас. Я не была такой. Во всем вижу зло, обман, распад. Олю в черт знает кого определила. А за что? А потом сидела, знала, знала, чем вся эта любовь кончается, придет день, и Макс ей изменит, полетит на какой-нибудь необыкновенной формы нос, я его знаю, он может… увлечься кем-нибудь из-за носа или втюрится в лопатки или ключицы.
– Ну что ж, это жизнь.
Этот выставляемый Юлей щит «что ж, это жизнь» равнодушно принимал на себя любые удары.
– Чувствую себя старой психованной дрянью.
– Перестань. Ты zlatá matka. Таких матерей, как ты, поискать с огнем. И какая же ты старая. Посмотри на себя. Ягодка, а не личико.