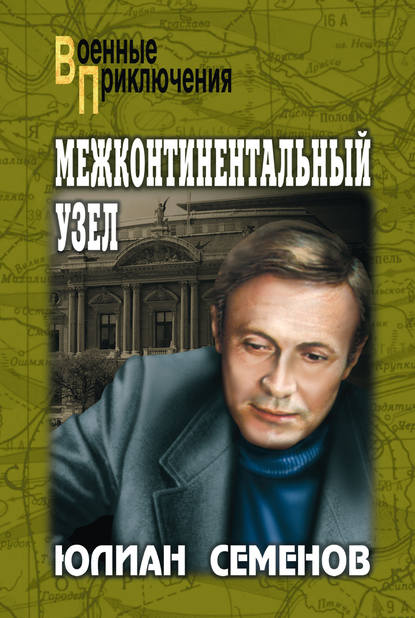Полная версия
И сегодня стреляют
Солнце уж калило вовсю, когда мотор снова заработал и переполненная лодка заскользила от берега. Матвеич с беспокойством оглядывал низко сидящие борта, струи воды под бортами.
В былые времена он ни в какую не допустил бы такого плавания. Это ж чуть шелохнется кто – и поминай как звали. По глазам видно: половина пассажирок держаться на воде вовсе не умеет. В былые времена не допустил бы, не теперь. Теперь на берегу можно скорее сгинуть, нежели на воде.
– Дед, а дед! – Степка подергал его за рукав. – А кто это – Павлик Морозов?
– Какой такой Морозов? – И вспомнил Матвеич розовенького командирчика, что выспрашивал их в степи, мысленно выругал его: зацепил-таки занозой глупую Степкину головенку. – Морозов-то? Да был такой шалопай, вроде тебя.
– А чего он?
– Чего, чего… Тоже небось чевокал. Дочевокался.
В немыслимой вышине охочие до дали глаза Матвеича вдруг углядели вроде как клин журавлиный. Только какие могли быть журавли в августе, ясно, что самолеты. Загудели гудки воздушную тревогу, над высоким берегом, над домами вскинулась череда взрывов, и сюда, до середины Волги, долетел единоголосый стон тысяч людей. Зашевелились, загомонили бабы в лодке, похватали узлы свои, оттащили от бортов детишек, ошалело глядевших на быструю воду. Бабуся, сидевшая на самом носу, принялась креститься и тоже все норовила встать, тянула голову, высматривала что-то вдали.
– Сидеть! – сердито крикнул Матвеич. – Не шевелиться! – И добавил не своим, жалостливым голосом: – Лодка ведь. Потонете ведь…
Снова, как тогда, перед рассветом, выпорхнули из глубокой синевы два наших самолетика, засуетились вокруг косяка бомбардировщиков, закрутилась трескучая карусель и покатилась дальше, за край неба.
Опять затихло на реке, и опять дремота стала одолевать Матвеича: шутка ли, сколь без сна, без передыха. Почудилось ему давным-давнее, когда он был помоложе этого самого лодочника Бакшеева, грудастый да рукастый, гулял на своей спасательной шлюпочке возле пляжей, ловя зазывные взгляды полуголых дамочек, шалея от них.
И как видение из тех немыслимых времен, показался вдали маленький буксирчик «Ласточка». Собственно, Матвеич давно уж знал, что буксирчик на подходе: шум его старого паровичка всегда был слышен за много верст. Сколько Матвеич помнил себя, столько помнил и «Ласточку». Еще мальчишкой засматривался на нее с берега и, как о немыслимом счастье, мечтал покататься на ней. Он рос, взрослел и старел, а «Ласточка» оставалась той же, черной, хлопотливой, шумящей на всю Волгу. Должно быть, и молодость-то свою он увидел потому, что прежде услышал «Ласточку».
– Дед, а дед, ну дедушка!..
– Ты вон куда гляди, – махнул рукой Матвеич на приближавшийся буксирчик с длинным хвостом дыма над черной трубой. – Я как ты был, а она уже тут плавала.
– Кто «она»?
– Ну, оно, судно, буксир.
– То она, то оно, а это пароход, он, значит, сам говоришь – буксир.
– Ишь, грамотей! – восхитился дед. – Кто тебя только выучил?!
– Ма-амка…
Степка заулыбался и вдруг потух, вспомнил, чуть не заплакал. Матвеич прижал его к себе одной рукой и, не зная, как утешить мальца, промолчал, стал смотреть на «Ласточку».
Знал он о ней все, что было и чего не было. Что рожали ее, как самую быстроходную, оттого и колеса сделали такие большие, и трубу такую длинную. И имя дали под стать посыльному судну – «Ласточка». А получился истинный гадкий утенок, как спустили на воду – скособочилась. Хотели выровнять – скособочилась на другой бок. И махнули на нее рукой, определили в разряд рейдовых вспомогательных судов неопределенного типа. А потом было как в сказке. «Уродец» и революцию прошел, и в Гражданскую воевал, и ныне не устает.
Команда «Ласточки» была знакома-перезнакома Матвеичу, особливо «тройка чумазых», как он их называл: механик Дмитрий, да сын его в помощниках – Колька, да дочка Мария – в кочегарах. Хотел помахать им, но по чересчур частому пыху и по клубам пара определил, что очень они торопятся, и не помахал. Только опять, как утром, когда увидел сумасшедшую военную легковушку, встревожился. И почему-то холодно ему стало. И привиделось холодное – зима тех давних времен, когда он только прознал про спасателей.
Чего понесло его тогда через Волгу, да еще в сумерки, уж не помнил. А там полынья незамерзающая, и очень он боялся проглядеть ее. А ветер хлестал снегом – метель была сильнющая. Думал – совсем пропал, молиться начал, хоть в церковь никогда и не захаживал. И увидел огонек. Подошел, а это – керосиновый фонарь на снегу. Думал, кто потерял, хотел взять, да увидел другой фонарь, потом еще и понял: кто-то специально выставил огни, чтобы такие вот гуляки сдуру в полынью не залетели. Потом невдалеке ревун заревел, и он разглядел будку. Ввалился в нее полузамерзший, и встретили его тут как родного. Два сторожа были в будке, сидели у чугунного камелька, скинув шубы, пили чай. И узнал отогревшийся телом и душой сын Матвеев, что сидят они тут специально, чтобы поджидать таких, как он, заблудших, а если придется, то и спасать: были при сторожах багры, спасательные лестницы, даже лодка была.
С того и пошло. Вскорости, как Волга отошла, явился он на спасательную баржу к атаману проситься, чтобы взял в свою артель матросом. Прознал к тому времени, что живут матросы богачами, получают по 15 целковых каждый месяц, да еще пятую часть от катания дам на лодках…
Восторженное воспоминание о дамах в лодке вдруг обернулось тревожным чувством. Матвеич открыл глаза, увидел лодку, полную перепуганных женщин, горько усмехнулся: вон как получилось на старости лет. Степка спал, уронив голову деду на колени. Хохлушка Лидия сидела рядом на своих узлах, глядела на Матвеича, и была в ее глазах то ли благодарность за спасение, то ли упрек, что увез ее с детишками в пустое Заволжье, когда вон он, целый город на берегу, в котором было бы куда легче переждать беду.
Тут как раз лодка ткнулась в отмель, и мотор у нее опять заглох. Бакшеев выпрыгнул в воду, за веревку потянул лодку ближе к берегу. И Матвеич перевалился через борт, и еще несколько баб с визгом ухнули в теплую воду, все вместе потащили полегчавшую лодку носом на песок.
Через минуты шумный табор раскинулся неподалеку у зарослей ивняка. Никто никуда не тронулся, все тут и принялись обустраиваться, будто сюда стремились из дальней эвакуации.
А Бакшеев снова уткнулся в свой мотор.
– В военкомат сколь раз ходил, – сказал он, не поднимая головы. – Не брали. Без белобилетников, мол, фашистов прогоним.
– Да уж куда тебе, больному, – поддакнул Матвеич.
– А теперь зовут. В ополчение. Вот и торопился. Всю ночь возился с лодкой, не бросать же.
– Да уж конечно, как не понять.
– Хорошо, ты пришел. А то я прямо издумался: на кого лодку оставить? Им что, – мотнул он головой на бабий табор. – Абы переправиться. А за лодкой глаз нужен. Вон сколько людей на той стороне.
Матвеич помолчал, прикидывая для себя эту новую перспективу – быть лодочником. Не молодой, сможет ли?
– Домой бы надо. Степку доставить.
– Доставишь, – оживился Бакшеев. – Счас вернемся – и давай. А потом приходи.
– Помоложе бы кого. С горючкой-то непросто. А на веслах – какой из меня весельник?
– Достанешь горючку…
– Мотор опять же. Кто без тебя починит?
– Будет работать. Я уж понял, отчего глохнет, сделаю.
– Скоро?
– Да часок-другой.
– Все у тебя часок-другой, – проворчал Матвеич, сам не понимая, на что сердится. – Ну, я тогда вздремну чуток, невмоготу уж. Вон там, в кустах. Разбудишь тогда.
Проснулся Матвеич за полдень, солнце уж через Волгу перевалило и висело ослепляющим прожекторным глазом над хорошо видным отовсюду серым кубом элеватора на той стороне – самого высокого здания во всем городе. Проснулся не от того, что выспался – в голове еще мутилось, – а от какого-то беспокойства, вдруг охватившего его. Не было слышно никаких голосов рядом, а издалека, с севера, доносились непрерывные стрекот и перестук, будто там целая бригада бестолковых молотобойцев лупила молотками по чему ни попадя. Потом заухало вдали, и Матвеич понял – взрывы.
Еще не убоявшись ничего, он встал: на севере, за Тракторным заводом, последнее время часто постреливали, там были полигоны. Бабы повскакивали со своих узлов, безотрывно вглядывались во что-то дальнее.
– Что там таке гортуется?!
– Обыкновенное дело, – успокоил их Матвеич. – Воевать учатся.
Он подошел к лодке, на носу которой во весь рост стоял Бакшеев, смотрел в бинокль.
– Дай-кось.
Отряхнул руки от налипшего песка, взял бинокль, покрутил колесико. Дальние дерева мешали глядеть, и он тоже забрался на высокий нос лодки, наполовину вытащенной на берег. Теперь можно было рассмотреть холмы на той стороне Волги, где за тракторозаводскими корпусами протекала невидимая отсюда речушка Мечетка. Что-то там дымило и двигалось. В какой-то миг почудилось Матвеичу, будто высунулись из дымов крохотные фигурки машин-утюгов, какие довелось ему недавно повидать в степи. Он еще повертел колесико, потер глаза и опять долго глядел, но, кроме дыма, больше ничего разглядеть не мог.
– Ясно, учатся, – сказал неуверенно. И вдруг закричал на баб: – Чего расселись?! Чего не уходите?!
И снова повернулся к Бакшееву:
– Долго еще? Солнце-то вон где.
– Да я готов.
– Тогда поехали, чего ждать?..
Весело тарахтел, заливался мотор, солнце плясало на быстрой воде, и так было покойно посреди реки, что плыть бы да плыть, никуда не торопясь. И стрельба на севере будто поутихла, зародив надежду: может, и впрямь учатся? Береговые обрывы тонули в тени, над ними тысячами окон блестел на солнце город, над городом ровным частоколом торчали высоченные заводские трубы, над трубами, как всегда, тянулись, изгибались в вышине дымные хвосты.
Туда, к трубам, откуда было ближе до Мамаева бугра, до Матвеичева дома, не спросясь, и направил Бакшеев лодку.
– Ты, эта, не больно раскатывай, – сказал Матвеич. – Дойдем, чай не безногие, а тебя вон сколь ждут.
Лодка круто вильнула, и Матвеичу подумалось, что лодочник обиделся. Хотел поворчать примирительно, но вместо этого вдруг выскочила в памяти давняя поговорка, коей не раз, бывало, ответствовали утопленникам, обижавшимся на бесцеремонные приемы спасателей; «Обиделся? Ничо, на том свете увидимся». Чуть не сказал, едва удержался. А напустился на Степку, перегнувшегося через борт, ловившего рукой сверкающую струю. Все жила в нем тревога, зародившаяся в тот миг, когда почудились ему в бинокле немецкие машины-утюги, подгоняла.
С нетерпением, будто неделю не ступал на твердь, выскочил Матвеич на береговую отмель и, крикнув Бакшееву, чтобы берег лодку, потащил Степку за руку на тропу, уводящую по обрыву вверх, к домам, к городским улицам.
Тут как раз и запели гудки воздушную тревогу. Ему бы обратно, под обрыв, спрятаться в какой ямине, а он заторопился наверх.
Улица была знакомая, одно-двухэтажные деревянные дома стояли плотно, сцепившись заборами, будто оберегали свою тихую благодать от суетного потока людского, от грохота телег да тележек по булыжной мостовой. До Нахаловки отсюда было рукой подать: полчаса – и дома. Но подстегнутая воздушной тревогой толчея людская затолкала Матвеича со Степкой в большой квадратный двор, почему-то голый, без травинки. Впереди были два крыльца двухэтажного дома, слева, у высокого забора, – качели и большой стол для общего отдыха на вольном воздухе, справа – сараюшка с кривыми поленницами, сложенными из хвороста да выбеленных водой палок и досок, выловленных в Волге. Посреди двора были вырыты две большие щели. В них и попрыгали люди – кто на кого, все, как один, устремили глаза к небу. А в небе дюжинами ползли черные кресты бомбовозов. Вокруг пушинками возникали белые клочки зенитных разрывов, но бомбовозов это будто и не касалось, не ломали строя, все ползли, направляясь к центру города.
И загрохало там, заухало, слилось в сплошной гул и рев, заставляя и здесь, в стороне, глубже вжиматься в земляную щель. А потом загрохало вблизи, остро запахло пылью и гарью. Над крышей, что виднелась за забором по ту сторону улицы, взметнулся черный клубок дыма, подсвеченный изнутри адским огнем, и полетели через забор палки, огрызки досок, какие-то ошметки.
– Гори-им! – вдруг взметнулся тонкий женский визг.
Люди стеной подались к краю земляной щели, где были ступени. Оглянувшись, Матвеич увидел дым над крышей дома, багровые блики в окнах второго этажа и что-то белое, привидением мелькавшее там, за стеклами.
– Бабушка-а! – закричал кто-то. – Больна-ая-а!
– Чего же не вывела! – заругались в толпе.
– Дак не хо-оди-ит!..
В один миг свободно стало в щели: повыскакивали бабы, толпой кинулись к подъездам. Узлы, чемоданы, стулья, кастрюли да самовары, ящики, выдернутые из комодов, рассеивающие по ветру белье да тряпки, – все летело из окон в общую кучу.
Дом разгорался так, будто это вовсе не дом был, а соломенная скирда. Пламя уже полыхало во всех окнах второго этажа, что-то горящее летело сверху на кучи спасенного добра, и оно тоже занималось.
– Ах ты Господи! – заметался Матвеич. Погрозив Степке, чтобы не высовывался, он вылез, побежал оттаскивать добро от дома. Не к месту подумал вдруг: хорошо еще воскресенье нонче, люди все дома, а то бы беда.
Дым и огонь клубками выбрасывались из верхних окон. И как раз оттуда, из дыма и огня, вдруг взвился леденящий душу детский визг.
Застыли, оцепенели бабы, все суетящиеся у дымных подъездов.
– Клавка-то никак ребенка заперла!
– На базар ушла, дура!..
«Воскресенье нонче», – опять подумалось Матвеичу. Бросив охапку вещей, которые оттаскивал на середину двора, он подался к дымящему подъезду. Но его опередила молодка в косыночке и легком, порхающем платьице, взлетела по лестнице на второй этаж. Через мгновение грохнуло там, в дыму, и затихло. Только что-то большое и грозное шевелилось, фырчало, чмокало наверху, плотоядно хрустело обоями, иссохшими шкафами, перегородками.
«Ну все, пропала девка!»
Матвеич заходился в кашле посередине лестницы. И вдруг его чуть не сшибла катившаяся сверху груда. Уцепившись за перила, он с ужасом думал: кто бы это еще? Сообразил: та же девка с ребенком на руках. Кинулся вниз, увидел, как набежавшие бабы сбивали с нее огонь чем ни попадя.
Снова грохнули взрывы неподалеку, и Матвеич, кашляя и ругаясь, затрусил к щели. Обхватил Степку обеими руками, пригнул, чтобы если уж жахнуло сверху, то по нему, не по Степке.
И опять затихло наверху. Только дом все гуще гудел, разгорался. Бабы опять забегали по двору, заголосили. А Матвеич огляделся, соображая, что теперь делать. Девка, что выносила ребенка, скорчившись, сидела на дне щели. Платье на ней совсем обгорело, обнаружились розовые, заляпанные копотью панталоны, и она закрывалась растопыренными пальцами, таращилась на Матвеича круглыми испуганными глазами.
– Дура, кто теперь на тебя глядит?! – крикнул Матвеич.
Не уговорил. Девка, похоже, совсем онемела от страха, от стыда, ничего не соображала. Плюнув, он снова вылез из щели, в грудах выброшенного барахла отыскал полосатую пижаму, принес.
Пожар перекинулся на сарайки, на поленницы, пополз по заборам, выдавливая кричащую, плачущую толпу со двора на улицу. Но и на улице было не лучше: горели дома на другой стороне, и некуда было деваться, кроме как бежать вдоль улицы, мечась от одной огненной стены к другой.
– Зажигальными он, зажигальными бросает! – отложился в памяти чей-то вопль.
«Ну, если зажигальными, пиши пропало!..»
Матвеич скинул пиджак, засунул в него Степку и, крепко ухватив внука за ручонку, затрусил посередине улицы. Отбежав изрядно, понял, что бежать-то надо бы в другую сторону, к Волге, где легче укрыться. Оглянулся на бегу. Улица походила на задымленный тоннель, посреди которого метались люди, свечками пылали столбы и горели кучи вынесенного из домов добра. Вспомнил: впереди будут каменные дома, – и заторопился туда, рассчитывая, что среди каменных-то домов улица не превратится в сплошную печку.
Но и каменные дома тоже горели. Возле колонки суетились пожарные. Воды не было – где-то чего-то перебило, – и они бестолково бегали вокруг своей красной машины.
Взрывы протопали поперек улицы, раскидали дома, разворотили мостовую, вскинули дымы новых пожаров. Грохот, истошный визг, чудовищный, непонятно откуда доносящийся скрежет, будто разом тормозила сотня паровозов, заставляли гнуться к земле. Сквозь этот бедлам звуков прорезались женский визг, крики обезумевших от страха детей, чей-то громкий, захлебывающийся плач.
Степка тоже закричал, и Матвеич ругнул его: не раненый, не ушибленный, чего орать?!
Тот замолк на миг и снова заорал, вроде как с ликованием в голосе, задергался. Обернувшись к нему, Матвеич увидел лучащиеся глазенки, устремленные в небо, где кувыркался, падал хвостатый крестик самолета.
– Оглашенный!.. Хуже бомбы…
Но уж и другие люди орали в злой радости, и самому Матвеичу хотелось кричать вместе со всеми. Может, и закричал бы, если бы только что не ругал внука. Стоял, ликуя сердцем, сам удивляясь: такое кругом, а тут какой-то один-единственный самолет, скувырнутый с неба. Что за убыток ворогу, когда гибнет целый город? А все ж таки не задаром, все ж таки даем сдачи…
А в Нахаловке было тихо. Ничего тут не горело, не подсвечивало. Невдалеке горели нефтехранилища, но от них было больше черного дыма, чем огня. Зато город полыхал весь, языки пламени то дыбились окровавленными чудищами, то опадали, чтобы в другом месте вскинуться вновь, еще выше. Что за судьба такая была у Нахаловки, что ни один самолет не залетел сюда, не высыпал зажигальные? А гореть тут было чему. Никто и никогда не думал тут о пожаробезопасности, и сам по себе горел поселок чуть ли не ежегодно. А в такую страду пронесло. Даже стекла в домах были целы, поблескивали в отсветах великого пожарища, будто хитро подмаргивали гибнущему городу. И люди, которые были дома, все стояли возле своих калиток, иные с приготовленными узлами, не зная, что делать: то ли прятаться, то ли бежать куда.
Свою Татьяну Матвеич узнал издали, хоть и темнело уже. И она углядела своих, побежала навстречу, подвывая от радости. Затормошила, задергала Степку, защупала, будто хотела в один миг оглядеть всего.
– Да цел, целый, – успокаивал ее Матвеич. – Чо ни было, ничо не берет. Одно слово, постреленок.
А Степка сразу растекся под бабкины причитания. То ершился всю дорогу, а тут разомлел и притих. Или такая уж порода – мальцы: как с ними, так и они? Не умылся как следует, не поел, не попил толком. Только отвернулась бабка, как он опустился на половичок, свернулся, будто щенок у порога, и отключился. И раздевала, и умывала его бабка спящего – не проснулся.
А и Матвеич тоже чувствовал, что нет сил даже ложку до рта донести. Но держался, прихлебывая чай из своей любимой кружки, рассказывал жене о непростой своей дороге, о немцах в степи, о хохлушке, о катании за Волгу, о том, как через огонь да полымя добирались они со Степкой от Волги до Мамаева бугра.
Под окнами визгливо затявкала соседкина собачонка, прозванная Геббельсом за бестолковость и скандальный нрав. Татьяна закрыла окно, задернула занавески светомаскировки и зажгла на столе неизвестную Матвеичу, новую в доме лампу-коптилку. Простенькая – склянка, трубка с дырочками, фитиль в трубке, – а горела ярко, как настоящая.
– Отколь взялася? – спросил он.
– А с «Октября». Наладили производство. Вон какая там теперь индустрия.
– Дела-а, – протянул Матвеич. И добавил неожиданное: – Надо тебе, Татьяна, собираться.
Она обмякла вся, стул жалобно ойкнул под ее грузным телом.
– Куда?
– Уезжать надобно.
– Без тебя?
– Без меня. Со Степкой.
– А ты тута?
– А я тута. Война, чай.
– Ты совсем от меня уходишь али как?
От удивления Матвеич пролил кипяток на колени, даже про сон забыл. Поморгал на жену и вдруг скривился в усмешке.
– А чего? Есть одна мамзель. «Лидией» зовут. Немолода, правда, можа, лет двадцать будет.
– Я так и знала, – заплакала жена. – Ты у меня еще видный…
Он перегнулся через стол, поймал ее за широкую юбку, притянул к себе.
– Война вашего брата дюже подчищает, и старики за мужиков пошли…
Остановил ее причитания, хлопнув по тому месту, где когда-то была осиная талия.
– Дура ты, дура и есть. «Лидией»-то лодку зовут. На переправу пойду. Там Санька Бакшеев в ополчение уходит, так я на его место.
– А чего меня-то гонишь?
– Не я, немец гонит. Видел, как на машинах-то разъезжают, пыль столбом. Того гляди тута будут.
Она замотала головой:
– Не пустят. Давеча сосед приходил, сказывал – не пустят.
– Много он понимает, твой сосед!
– Чего мой-то?!
– А то и твой, раз ты ему веришь, а мне не веришь. Можа, и не пустят, а бой тут будет страшенный. Ты погляди…
Вскочил, отдернул занавеску светомаскировки, забыв погасить лампу. По стеклу заметались отсветы пожарищ. Город горел вроде бы даже сильней, чем днем. На соседском дворе сразу залилась бдительная собачонка. Матвеич закрыл занавеску, подоткнул по углам, чтоб свет не сочился на улицу, снова сел.
– Вон как бомбят.
– Дак чего сделаешь?
– Чего, чего… Зачевокала, ровно Степка. Вакуироваться надо.
– Да куда я поеду-то? Никто не едет, а я поеду незнамо куда?
Матвеич промолчал. Что верно, то верно, никто, кого он знал, не тронулся с места. Там, на переправах, – сплошь эвакуированные, люди из дальних мест. Да и те, если б где было приткнуться в Сталинграде, остались бы. Все верили: немцев не пустят.
– Так ведь бомбят, – повторил Матвеич, не придумав другого.
– Так ведь, может, и ничего?
И опять он надолго замолчал. Мысли путались. Надоевшей мухой крутилась одна и та же мысль о той бабе из анекдота, которая, когда рожает, кричит, что больше ни в жизнь, а вскорости снова твердит: «Может, и ничего?..»
Привиделась ему спасательная баржа на Волге, и будто он откачивает утопленника. А над ним атаман глыбой: «Буди, буди скорей». А утопленник возьми и скажи Татьяниным голосом: «Уходи, дай человеку поспать». А атаман вдруг тявкнул по-собачьи и залился истеричным лаем.
Открыв глаза, Матвеич увидел светлый квадрат раскрытого настежь окна и в нем задубелое у мартенов, красное лицо соседа Киреева, тоже пенсионера, хоть и молодшего.
– Уйми своего Геббельса, – сказал Матвеич.
– Хватит мух давить! – неожиданно громко закричал Киреев. – Айда воевать!
– Он свое отвоевал, – встряла Татьяна.
– Теперя все пошли, у кого и ноги не ходят.
– Куда? – Матвеич потянулся, чувствуя, как полегчало после сна.
– Немец-то вона, за Тракторным.
Захолонуло в груди. Значит, не почудилось вчера в бинокле, значит, верно, не учение это. Поднялся, спросил, будто лишним спросом можно было удержать набегавшее.
– Не ври. Отколь ему взяться?..
Хотел пояснить, что сам прошел степь и видел ее всю пустую, да вспомнил: так же думал тогда. А немец был – вот он. Долго ли на машинах-то? Ежели где проткнулся, то ехай да ехай.
– Идешь ай нет?!
– Как не идти, когда все.
Татьяна заплакала, запричитала. Напомнила про лодку с красивым именем «Лидия». Матвеич задумался на миг – не подвести бы Бакшеева – и махнул рукой, решил: прогонит немца и пойдет на лодку, до вечера, глядишь, управится.
Степку будить не стал. С новым, щемящим чувством взглянул на него, раскидавшегося по кровати, и выбежал во двор.
Так и нес в себе это слезное всю дорогу, пока они с Киреевым шли-торопились до неблизкого Тракторного. Пожарищ было вокруг – не сосчитать. Там и тут на месте бывших домов дымились черные груды, посреди которых белыми памятниками высились длинные печные трубы. Бабы и ребятишки топтались вокруг, не кричали, не причитали, видно, наревелись за ночь досыта. Горячий удушливый дым стлался над дорогой. На крыше выгоревшего кирпичного дома громыхала на ветру сорванная жесть, а внизу, возле черного провала бывшей двери, светлела целехонькая вывеска: «Магазин открыт с 9 часов утра до 6 часов вечера».
Здесь, в заводском поселке, пожары отгорели или были потушены. А центр города вдали все полыхал, пятнал многими дымами замутненное небо. И нефтехранилища у Волги все горели, и на заводских дворах что-то всплескивалось огненно, будто там, не в цехе, а прямо на открытом воздухе, шел выпуск металла.
В поселке и застало их близкое подвывание тяжелых немецких бомбовозов. Знали этот звук – наслушались в последнее время – и не стали, как было поначалу, шарить глазами в небе, а поторопились поискать, где бы укрыться. Увидели щель возле домов, большую, многосемейную, побежали туда. В щели было просторно – взрослых мало, больше ребятни. Бабы да девчонки помалкивали, косясь на небо, а мальчишки вроде ничего не боялись, спорили в голос про шпионов, которых ныне развелось-де, что сусликов в степи, – только отлавливай. Да вспоминали какого-то Мальчиша-Кибальчиша, который будто бы в одиночку бился с ворогами.