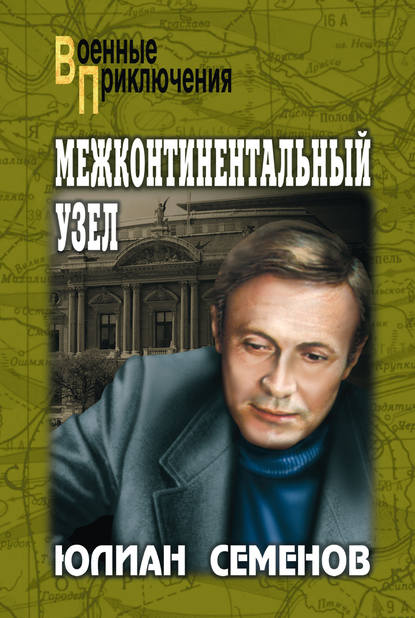Полная версия
И сегодня стреляют

Владимир Рыбин
И сегодня стреляют
Сборник
«Военные приключения» является зарегистрированным товарным знаком, владельцем которого выступает ООО «Издательство «Вече». Согласно действующему законодательству без согласования с издательством использование данного товарного знака третьими лицами категорически запрещается.
Составитель серии В.И. Пищенко.
Произведения мастера отечественной военно-приключенческой литературы.
© Рыбин В.А., наследники, 2021
© ООО «Издательство «Вече», 2021
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021
Сайт издательства www.veche.ru
* * *Дедова переправа
Весь август волна эвакуации катилась через город: вереницы подвод с беженцами, надсадно ревущие автомашины, гурты скота, навьюченные коровы, верблюды. Несмолкаемый стон и гвалт стояли в улицах, ведущих к переправам, на которых денно и нощно челночили не то что пароходы и катера, а все самые завалящие лодчонки.
– Народу-то, народу! Это ж понять надо!
Матвеич сидел на скамье у забора вместе со своим восьмилетним внуком Степкой и все смотрел, смотрел на это мельтешение людское. Монотонный гул толпы навевал дремоту, мерещилось ему, что люди просто переезжают с места на место, как в бывалые годы заполоняли степные шляхи переселенцы, снимавшиеся с родных мест семьями, селами, чуть ли не целыми уездами.
– Живут – не видать никого, а как сорвутся с места – прямо беда!
Самому ему лишь один раз пришлось переезжать, давным-давно, когда обустраивалась Нахаловка у Мамаева бугра. Нахаловкой их поселок обозвали потом, а в ту пору обалдевшие от невиданных перемен, от вавилонского столпотворения, называемого неслыханным словом – индустриализация, – люди, свои, царицынские, а больше приезжие, решили, что пришла пора ухватить свое, и начали дуриком обживать лучшие места за городом, откуда весь мир как на ладони, что по эту сторону Волги, что по ту. Родники тут были чистоты небывалой. Правда, тогда прямо из реки пили без опаски, но вода из родников от бугра на много верст считалась целебной.
Вот там-то и обустроился Матвеич со своей невеликой семьей – женой Татьяной и непутевым оболтусом Степкой, родителем вот этого Степки, так похожего на своего отца, что временами казалось Матвеичу, будто жизнь только начинается или идет по какому-то заколдованному кругу. Вот тогда-то и был у него переезд, от которого, как вспомнить, по сей день берет удивление: всегда жили – последний хрен без соли доедали, а выворотили барахло в кучу – откуда что и взялось. Богач, да и только. Так его поначалу и прозвали в Нахаловке – Богачом. Не нравилась ему эта кличка, да что было спорить, чего ругаться, когда у многих из тех перекати-поле, что были согнаны на строительство заводов, все имущество умещалось в заплечных мешках.
– М-да, только и видишь, как велика Россия, когда она с места снимется. Это ж понять надо!
Степку дедова философия никак не задевала, он давно уж приметил сидевшего неподалеку мальца с кошкой за пазухой и понемногу отползал по скамье, чтобы удрать от деда. Кошка блаженно жмурилась в разрезе детской рубашки – хвост ее торчал из-под рубашки снизу, и не было никакой возможности отвести от него глаз, до того хотелось подкрасться и дернуть кошку за хвост.
– Ты не сучи ногами-то, не сучи, ты гляди знай, что делается, запоминай.
Степка будто не слышал.
– Сиди! – пристукнул дед ладонью по скамье. – Мы уж единожды попали в беду из-за твоего сумасбродства.
– А сам говорил: не единожды, – подначил деда Степка.
– Цыц! Знаешь, о чем говорю, зна-аешь!
Степка отвернулся от мальца с кошкой, чтобы не смотреть, не мучиться. А дед, как всегда бывало, когда вспоминал ту беду, расстроился. Случилась-то она всего ничего – днями, а уж измучила думами – сил нет.
А все из-за шалопая Степки. Не этого, того, сына. То никак не могли его обженить, а то в одночасье сошелся с казачкой, приехавшей на базар. И увезла его казачка на той же бричке, будто купленного на базаре порося. И не успели Матвеич с женой опомниться, как казачка уж и сына родила, вот этого Степку. Быстро у нонешних. Ну да время, видать, такое – все быстро. Заводы, на что трудное дело, и те вмиг вымахали трубами по всему берегу, отгородив Нахаловку от Волги, – Сталинградский тракторный, металлургический, всякие другие.
Вся-то жизнь проскочила в одночасье. Давно ли, казалось, христом-богом молил атамана, чтобы принял в артель спасателей, а уж и пенсия подошла, заслуженный отдых по-теперешнему. Отдохнуть-то вроде бы и пора, только пенсию такую дали, что если не кормиться с огорода своего, то ложись и помирай.
А тут и война подоспела, накуролесила. Степану сразу повестка пришла, и он исчез в разбегаловке прошлого лета то ли на севере, то ли на юге, сгинул. А этим летом и до младшего Степки добралась война: разнесло дом бомбой вместе с мамкой и всеми ее сородичами. Степка, бают, шастал по чужим огородам и потому жив остался. Прибежал домой, а дома нету и никого нету. Эка мальцу такое угораздило! Хорошо еще, что соседи адрес деда знали, отписали про все. И поехал Матвеич за внуком своим, сиротой-горемыкой, в недальнюю казачью станицу.
Станица-то недальняя, да добраться до нее по военной поре оказалось непросто. Война грохотала, считай, за околицей; ночами, слышно, пушки гремели и зарницы по небу: бои, сказывали, шли такие, что не приведи господь. Как Матвеичу удалось выхватить Степку из-под немца, и самому удивительно. Помог командир, дай ему бог здоровья. «Забирай, – говорит, – своего внука, и чтобы через час духу твоего тут не было». И машина чудом подвернулась, эвакуированных везла.
Недалеко увезла. Остановили военные в степи, высадили людей, уложили в кузов раненых, что маялись в другой машине, сломавшейся.
И подались Матвеич со Степкой домой своим ходом. Благодать была в степи, какой и не видывал. Зной сух, небо чисто, без облачка, в небе неподвижными крестиками коршуны. У дороги суслики, обалдевшие от удивления – что, мол, деется, что деется?!
И ночь была. О, что за ночь была в степи! Будто кусты и травы, сама земля, занемевшие за день от недвижности, вдруг разом вздохнули облегченно. И этот дух распрямившейся жизни был непереносимо сладок.
Целый день шли по степи в тишине небывалой, и Степка все допытывался: идет война аль кончилась? У дуралея одно на уме – забавы, визжать бы ему только, пугать тишину да за сусликами гоняться.
На другой день вышли к бабам, что оборону копали. Тут тишина и благодать степная кончились. Не успели разобраться, как налетели целых три самолета. Бабы кто куда. Иные под тачки залезли, зады наружу. А одна этак-то накрылась газетой, чтоб ничего не видеть, лежит, ноги трясутся. Смех, да и только.
Смех смехом, а побитых, пораненных да ушибленных нагрузили не на одну подводу. Матвеичу со Степкой места на подводах не нашлось, и опять потопали они своим ходом.
Еще день шли. А под вечер, когда зной стал спадать, почудился Матвеичу новый звук над степью. Сначала подумалось: какой-то жук, ошалев от жары, перепутал день с ночью. Звук стелился по сухой траве, расползался, усиливался. И уж ясно было: никакой не жук, а что-то неведомое шебаршится, зудит вдали, подбираясь все ближе. Цыкнул дед на Степку, чтобы помолчал, дал послушать, и скорее догадался, чем понял: гудят моторы.
Обрадовался оказии: авось подберут, не бросят в степи старого да малого. Сели они со Степкой возле дороги, стали ждать. Далеко видно в степи. Это под рукой ничего не найти по старости, а вдали – как на ладони. И углядел Матвеич ни на что не похожее: машины будто утюги, мотоциклы с пулеметами. Немцы? Откуда им взяться в этой степи, где и наших-то войск не видать? На всякий случай спрятался за куст и Степку пригнул, чтобы не выпячивался. Но тут, как на грех, суслик выскочил. Из-под того же куста и выскочил, встал столбиком, головенку вытянул, дивится невиданному да неслыханному в пустой и тихой степи. Цыкнул дед на суслика, чтоб не маячил, не привлекал внимания, да не успел – Степка на миг раньше кинулся к зверьку. Ясное дело – не поймал. Зато самого Степку углядел чужой глаз. Первый мотоцикл остановился невдалеке, шевельнул пулеметом.
– Хенде хох!
Степка совсем под куст нырнул, только задница наружу. А дед встал. Когда кричат из-за пулемета «Хенде хох!» – это и ежу понятно, что не шуткуют. Как раз и машины-утюги подоспели, остановились. Из одной вылез генерал. Может, и не генерал, но сразу видно – большой немецкий начальник.
– Вер ист ду? – спросил он, брезгливо отряхивая дорожную пыль с чистющего мундира.
Сразу подсунулся шустрый немчик, переводчик.
– Кто ты есть?
– Человек, кому еще быть? Не суслик же.
Степка фыркнул и вылез из-под куста, решил, дуралей, что раз дед – его последняя инстанция – не боится, значит, бояться вовсе нечего.
Немца, похоже, не больно-то интересовали ответы. Расставил ноги, стал справлять малую нужду, даже не отойдя в сторону, лишь отвернувшись. Спрашивал, не оборачиваясь: что, мол, делаешь в степи, откуда идешь да куда?
Узнав, что дед исконный царицынец, сталинградец по-теперешнему, всю жизнь проработал спасателем и знает Волгу, немецкий начальник подошел к деду, заулыбался, даже ширинку забыл застегнуть.
– Ты есть гут!..
Повернулся к переводчику, забалабонил быстро. И переводчик заторопился переводить:
– Германский командование будет ценить человеков, который знает переправ. Приходишь домой, идешь комендатур. Понятно?
Дед пожал плечами.
– Приходишь комендатур! – сердито повторил переводчик. – Понятно?
– Почему же не приходить? Было бы куда.
Немец залез обратно в автомашину, и колонна, набирая скорость, поползла по дороге, совсем запылив деда с внуком. Отбежать бы от дороги, но Матвеич все стоял и держал Степку за руку, боялся, не пульнули бы по убегающим. По зайцам завсегда стреляют. Стоял и удивлялся: не звери вовсе, люди как люди, только что немцы. А вот о чем говорили, было не понять. О какой комендатуре говорили? И вдруг сообразил: это ж они хотят раньше быть на Волге. Думают, на машинах дак быстрее, чем пехом? Это что же – прийти домой, а там немцы хозяевают?!.
Степка приставал дорогой, расспрашивал. Дед отмалчивался, не зная, что и сказать. А потом началась стрельба в той стороне, куда уехали немцы. Долго там трещало да грохало, и деду с внуком пришлось сделать немалый крюк по степи. А еще потом, когда выбрались к своим красноармейцам, копавшим оборону по-над балкой, начался другой допрос: видели ли немцев, да где, да когда? Степка возьми и брякни: «А они нас отпустили». – «Как отпустили?! Почему?» Все бы ничего, да спрашивали их, деда и внука, по отдельности. Степка и похвастал: «А деда сказал, что переправы на Волге знает…»
М-да, тут вот и началось… Все пришлось выложить, вплоть до того, как немецкий начальник забыл застегнуть ширинку.
Молодой розовый командирчик, допрашивавший их, все давил на психику, особенно Степкину: «Ты о пионере Павлике Морозове слыхал? Тот даже про своего отца рассказал. Герой!». Дурак был тот командир. Спросил бы про деда, Степка бы такого напридумывал, только держись, – с дедом они успели в дороге наругаться. А про батьку что Степка знал? Только и вспомнил, как он мамку мучил на сеновале да как она кричала. А потом ревела и почему-то смеялась, и вовсе зацеловала Степку, еле вырвался…
– Тьфу ты, вспоминается несуразное!..
Матвеич разлепил глаза, сами собой закрывавшиеся после бессонных ночей, огляделся. Степки рядом не было, он уже топтался возле пацана с кошкой за пазухой. И мать этого пацана, почерневшая в дороге хохлушка, сидела на своем месте, вытянув ноги, обессиленно раскинув руки по узлам, таким большим, что дивно было, как она тащила их с единственной своей помощницей – девчушкой Степкиного возраста.
Сколько прошло перед глазами таких же вот беженок, примелькалось! А возле этих Матвеич почему-то остановился. Неужто из-за кошки за пазухой у мальца? Боже, до чего бестолков человек со своими вниманиями-интересами!
Кошка дико взмяукнула и полезла мальцу на плечо.
– Не мучай кошку! – сердито крикнула женщина.
– Это не я.
– Все равно…
– Степка! – позвал дед. – Пошли давай!
И ухватил внука за руку, потащил по мокрому тротуару, только что политому хлопотливым дворником. От тротуара шел пар: земля не успела остыть после вчерашнего зноя.
По мостовой шли и шли беженцы, тащили узлы, катили громыхающие тележки, скользили на мокрых камнях, но не останавливались, торопились до жары успеть выйти к Волге, к переправе. В конце улицы, над домами, над темными купами дерев, растекалась заря, и вот-вот готово было выкатиться солнце, снова калить дороги, мучить измаявшихся людей.
В безоблачной вышине углядел дед три крестика – самолеты. И еще два малых, бегущих наперерез. Закрутились друг возле дружки, затанцевали. Долетел с неба тихий стрекот, и самолеты стали уменьшаться, пока совсем не истаяли в непорочной сини.
В тихой благодати запоздало зачастили воздушную тревогу далекие заводские гудки. Но ничего не изменилось в улице, только люди пошли быстрей, то и дело оглядываясь на небо.
А потом, чуть не сбивая беженцев, на бешеной скорости промчалась по улице военная машина, поселив в душе Матвеича новую тревогу: вот уж и военные появились в городе, стало быть, и впрямь война того гляди подкатит.
За углом, в скверике, несмотря на ранний час, парни и девки учились кидать гранаты. Сколь ни видел Матвеич всевобучей за последний год, все больше кидали гранаты. Будто и нечем борониться против ворога, окромя гранат. Парни – те еще ничего кидали, далеконько, а девки – ну прямо смех глядеть. Одна мотнула рукой совсем в сторону, и, не отступи дед с внуком, как раз в них бы и попало. Поднял Матвеич обтертую деревяшку с насаженным на нее куском железной трубы, примерился.
– Дай-кось я попробую.
Командир, этакий шустренький, молоденький, на котором от военного были одни штаны, подхватился:
– Ступай к бабке, дед, не мешай боевой подготовке.
– Ступай к мамке, сосунок! – взъярился Матвеич. – Тебя еще в помине не было, а я уж тут воевал. Вон там красновцев встречали.
– Теперь вам, дедушка, эвакуироваться придется, – смягчился командир.
– Вон как решил! А можа, я не хочу эвакуироваться. Можа, и я буду гранаты кидать.
– Да откуда вы их кидать-то будете?! – Парни и девчонки обступили Матвеича, зубоскалят, весело им.
– А хоть бы со двора. Або из окон. Они у меня маленькие, что твои амбразуры. А ну отринь!..
Он размахнулся и швырнул гранату так, что плечо заныло. Далеконько швырнул. Огляделся орлом и пошагал по улице. Степка бегал кругом, заглядывал в лицо.
– Дедушка, а ты можешь из пушки?
– Из пушки?..
Матвеич остановился и только тут разглядел, что идет он совсем в другую сторону, обратно идет. Вон уж хохлушку с детишками снова видно, сидит не шелохнувшись, раскидав по узлам руки.
И заныло в груди у Матвеича, так ему жалко стало эту женщину с детишками. Вроде бы чего они ему? Вон сколько беженцев, всех не ужалеешь. Да, видно, жалость, как болячка, нарывом копится в человеке, пока не прорвется.
Первой мыслью было – повести их домой. В Нахаловке тихо, в огороде кой-какая овощь имеется, и под присмотром его Татьяны они быстро отошли бы. Да сумасшедшая военная легковушка все взбаламутила: ну как и впрямь война подкатит? Куда он тогда с этакой оравой? Получится, что понапрасну обнадежил. Так бы шли да шли, глядишь, и ушли бы от войны. Человек идет, пока он идет. Собьешь с ноги, и ему уж не подняться. Ну-ка опять вязать узлы и тащиться с детьми, да еще и с кошкой… Далась ему эта кошка, из головы не выходила.
– Помочь людям-то надо, – сказал Матвеич.
– Надо, надо, – обрадовался Степка, вмиг проникнув в дедовы мысли, и затоптался на месте. – А я для кошки буду рыбу ловить…
– Нет, брат, им надо помочь за Волгу перебраться.
Степка не дослушал, помчался по улице. Матвеич пошел следом, прикидывая, сколько это отнимет времени, когда он сможет до дому добраться. И самому-то надо бы отдышаться, отойти от передряг, что приключились в дороге.
– Муж-то воюет? – спросил Матвеич, тяжело опускаясь на землю рядом с женщиной.
– Где ж ему быть?
– Чего с хаты-то сорвалась? Можа, немец-то бы и не тронул.
– Де та хата, – махнула она рукой. – Да и чоловик-то, хозяин-то мой, все писал, чтобы под ворогом не оставаться.
– Куда ж теперь с малыми?
– Туда, – махнула она рукой на восход.
Замолчали. Слышно было, как Степка приставал к мальцу с кошкой:
– Давай я понесу.
– Не-а, уронишь.
– Ну, мы вдвоем с дедушкой.
– Не-а, обманете.
– Если мы вас обманем, то вы нам три щелчка, а если мы нас… нет, если вы нас… если не обманем, то вы нам… Ладно?
– Ладно.
– Давай кошку.
– Не-а.
– Договорились же!..
Завозились пацаны, кошка замяукала, и женщина опять погрозила пальцем, крикнула устало:
– Не мучай кошку!
– Это все Степка, – сказал Матвеич и тоже погрозил пальцем. – Такой ли озорник, прямо разбойник. Матерь у него убило, дак он поревел чуть и опять за баловство.
– Малой еще. – Женщина вздохнула.
– Как тебя звать-то?
– Лидия. А вас?
– Матвеичем зовут.
– Чего ж не по имени?
Он промолчал. Не разъяснять же, что батько назло матке, родившей не дочку, как хотелось, дал ему господское имя Борис. Пока мал был, по имени не больно-то звали, больше по отцу – Матвеичев. Когда подрос, Борисом сам себя называть стеснялся. А и потом все Матвеичев да Матвеичев – по имени-отчеству величать было не принято. Так он из Матвеичева превратился просто в Матвеича. Будто вся жизнь – младость да старость.
– Дай-кось я тебе, Лидия, подмогну. На переправе жуть что делается, а я как-никак тутошний.
Узел оказался тяжеленным, и Матвеич подивился, как она, с виду не больно-то сильная, тащила его. Да знал уж – нагляделся на бабьи чудеса за долгую-то жизнь, – иная в крайнюю минуту за трех мужиков ломит – и ничего.
Проулком вышли к глубоченному оврагу, по дну которого текла крохотная речушка с почтенным названием – Царица. Прошли чуток по-над обрывом и скоро увидели розовую гладь Волги. И гомон услышали, пугающий гомон массы людей, похожий на гул растревоженного улья. На склоне оврага Матвеич отыскал взглядом деревянный павильончик, всеми тут именуемый Китайским рестораном. Бывало, захаживал сюда, любил посидеть за кружкой пива, разглядывая мужиков, узнавая, кто чей. И теперь, несмотря на ранний час, двери павильончика были открыты и возле толпился люд. Но не до пива было теперь. Спустившись на неширокую береговую отмель, он скинул узел и, наказав Лидии никуда не деваться, пошел искать кого-либо знакомого.
Переправы Матвеич знал. На центральных денно и нощно бегали в эту пору речные трамвайчики и катера, крутились пароходы да баркасы – «Надежный», «Пожарский», «Абхазец». Со многими капитанами да механиками Матвеич приятельствовал и теперь рассчитывал на их помощь. Но когда увидел на берегу вавилонское столпотворение, понял, что и знакомство не поможет. Капитаны и механики, слепые от суеты, от недосыпу, глядишь, не признают знакомого.
К дебаркадеру его не подпустили. Сосунок-красноармеец, стоявший с винтовкой у мостков, наорал на него, и Матвеич, потоптавшись в крикливой толпе баб с ребятишками, пошел по берегу. Да и не стояло у дебаркадера ни парохода, никакого катера, все были посреди Волги или же по ту сторону, за островами, и одна оставалась надежда – на лодчонку. Прежде они во множестве тыркались тут носами в берег. Иные мобилизовали и угнали, но какие-то и остались. Сколь ни греби, а всегда что-то да остается.
Ему повезло: нашел лодку и лодочника, давнего своего приятеля Саньку Бакшеева. Когда-то приветил Матвеич бродячего мальчишку, коих после той Гражданской неразберихи развелось великое множество, сделал из него спасателя. Совсем больной был парень, зяб да кашлял, но, думал Матвеич, солнце да вода хоть кого вылечат. А еще потому приглянулся ему парень, что был у него бинокль, морской, настоящий, какого ни у кого из спасателей не имелось. Все было видно в тот бинокль, до последней мелочи, и поперву пожалел Матвеич именно бинокль – украдут ведь. Хотел купить чудный прибор или на харчи выменять, но заупрямился парень. Вот тогда-то Матвеич и придумал сказку о курортном лечении на воде да на солнце.
Ошибся он тогда: не вышло из Саньки спасателя – в жаркие дни больше на островах пропадал, отлеживался на горячем песке. А вот симпатия у них получилась взаимная, и Матвеич часто пользовался биноклем, даже когда Бакшеев, работая где-то в милиции на берегу, неделями не приходил к спасателям.
Теперь этот самый Бакшеев возился у вытащенной на отмель большой лодки с мотором. Досталось, видно, лодке – на бортах блестели свежей засмолкой заплаты, а крышка ящика, в котором размещался мотор, была изгрызана, будто ее рубили топором.
– Чья лодка-то? – спросил Матвеич, присаживаясь на борт, с интересом рассматривая, как ловко Бакшеев что-то развинчивает да завинчивает в черной утробе мотора.
– А ничья, – ответил тот, ничуть не удивившись появлению знакомого. – Бросают, чуть что, война, мол, спишет. А нет бы починить.
– Починить думаешь?
– Да уж все почти. Это я им не говорю, – мотнул он в сторону баб с узлами, сидевших поодаль. – Набросятся, доделать не дадут. А так – час-другой, и поплывем.
– Час-другой? Ах ты! – обрадовался Матвеич. – На ту сторону?
– А куда ж?
– Ах ты!.. А я тут женщину с ребятишками привел. Возьмешь?
– Чего не взять? Все равно кого.
– Я счас. Ты сиди тут, – наказал он Степке, не отстававшему от него ни на шаг. – Сиди, я счас.
Он заторопился по берегу. Остановился в отдалении, крикнул:
– Бинокля-то цела?
– Цела, – удовлетворенно ответил Бакшеев.
– Ты это… дай Степке поглядеть. А то ведь за ним не уследишь.
Скоро он притащил узлы, привел женщину с детьми, усадил их поодаль, чтобы не привлекать внимания людей к еще не готовой лодке. Бакшеев все копался в моторе. Степка, расставив ноги, стоял на берегу, рассматривал в бинокль Волгу. Услышав деда, обернулся, нацелился на него, заорал:
– Ты вона где, а я тебя тут вижу!
Мальчишка с кошкой кинулся к Степке, упал. Кошка выскочила из-под него, бросилась в сторону. Мальчишка побежал за ней, и Степка тоже побежал, налетел на деда.
– Оглашенный! – укорил дед, отбирая бинокль. – Хрупкий прибор-то, понимать надо.
И сам стал рассматривать Волгу, разбомбленный, осевший по верхнюю палубу пароход, остовы полузатопленных барж, песчаные отмели да заросли ветел на островах и протоки, протоки – предмет постоянной заботы и тех давних, царицынских, спасателей, и недавних, сталинградских.
Наглядевшись, отдал бинокль Бакшееву и принялся проверять лодку. Все было починено на совесть, щели законопачены, проломы в бортах забиты и просмолены. Скопидомство, с каким Бакшеев столько лет трясся над своим биноклем, похоже, вовсе не было скопидомством, а хорошей бережливостью, уважением к вещи. Вон как это теперь обернулось – на лодке, всеми брошенной, обреченной.
– Может, чего помочь?
– Да уж нечего.
Матвеич снова поглядел на лодку и сообразил.
– Краска есть?
– Есть немного. А зачем?
– Давай имя напишу. Корабль без имени – не полагается.
– Пиши.
Он достал банку, наполовину налитую красным суриком, подал и кисть, не кисть, а клок пакли, привязанный к палке.
– Чего писать-то будешь?
– Чего? А вон «Лидия». Годится?
– А «Татьяна»?
– Где она? А тут, глядишь, обрадуем человека.
Крупно, так что на четверть лодки получилось, вывел Матвеич это имя на борту. Подумал, что всей-то «Лидии» на воде и не видно будет, до половины потонет. Обошел лодку и на другом борту написал «Лидию» помельче.
– Ну чего, звать людей-то?
– Давай потихоньку.
Матвеич принес узлы, кинул в лодку, усадил туда же мальчишку с кошкой, девчонку, и они принялись сталкивать пятнистое суденышко в воду. Откуда ни возьмись, подсунулись еще десяток рук, вмиг спихнули лодку, и так же вмиг она оказалась переполненной.
И Матвеич сам не заметил, как вместе со Степкой тоже оказался в лодке. Хотел вылезть, да побоялся за внука, поскольку лодку уже относило от берега.
– Плавать-то умеешь? – спросил на всякий случай.
– Еще как! – обрадованно заорал Степка.
Но бултыхаться в воду Матвеич все-таки раздумал. Решил: не много потеряет, если прогуляется разок на ту сторону. Вся ведь жизнь на воде, и теперь, особо после степной сухоты да пылищи, река тянула к себе, не отпускала.
Мотор зачихал, закашлял, задымил весь берег и заглох. Ухватились за торчавшую из воды сваю, молча, терпеливо ждали, пока лодочник разберется в моторе. И Матвеичу тоже пришлось щупать сальные, еще не раскалившиеся бока мотора. Знал он эту машину, такая же была на одном спасательном катере. Как обходиться с ней, заводить там, останавливать, тоже знал. А вот чинить не приходилось. И хоть не в силах он был помочь умельцу Бакшееву, а чувствовал себя нужным, но мысль о том, чтобы вылезть, совсем не приходила в голову. Думалось только о веслах. Бывало, моторов-то и знать не знали, а плавали куда хошь. Но женскими ли руками выгрести на стремнине? Закрутит, понесет, перепугает баб. А там и до паники недалеко, а паника на судне хуже пожара.